 |
|
|
|
 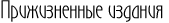
<<< Предыдущий блок :: Следующий блок >>>
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
мандовать; в Городищах прочел я историю последней Турецкой
войны и узнал о победах Скобелева; Скобелев - это "я" же, а
Боярки - театр военных действий; неделя, проведенная здесь,
превратилась в ряд блистательных, грандиозных побед; мне
было не до обитателей дачи Куперник, не до Асеньки даже,
когда с утра я об'езжал корпуса, днем дирижировал битвами,
уже охватившими район Боярок, а не только дачи; к вечеру
собирался военный совет и решал события следующего дня; и,
засыпая, додумывал я события игры, по-своему переиначивая
историю; ко времени от'езда наши войска стояли уже под
Константинополем: я возвращался в Москву, покрытый лаврами,
во главе всей армии, которой командовал.
Вставал вопрос, как совместить историю моих
американских приключений с новою ролью; я не мог просто
бросить свой миф; предстояло: связать оба мифа... И я
сочинил биографию: в молодости "он" ("я" - второе) вел
жизнь траппера в американских лесах; а, вернувшись в
Россию, "он" стал служить в армии (ко времени войны); ряд
успехов поставил его во главе войск; возвращался "он" в
июле 1890 года в Россию великим деятелем; да, но -
история? Тут-то начинается пересочиненье истории, чтобы
она соответствовала игре; обнаружилось: я и не Скобелев:
не было еще такого; не было "такой" России до осени 1890
года; скоро понадобились сведения о России для
пересочинения истории на мой лад; через год уже я читал
календарь Суворина, изучая статистику, структуру
государственных учреждений, состав "двора" и главы,
посвященные армии и флоту (мои ближайшие функции); и с той
поры в ряде лет зимами разрабатывал я план летней
кампании; летом вспыхивала война: осенью ж я возвращался в
Россию, увенчанный победами.
Первый мой триумфальный в'езд сквозь Кремль (с Курского
вокзала) был в июле 1890 года; когда мы въехали в Спасские
ворота, то грянул залп из орудий (под воротами гремели
камни пролетки).
Период перманентной игры обнимает десятилетие; она -
вторая действительность; в ней мальчик - "герой":
установление
225
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
связей между отдельными моментами нескончаемого сюжета,
имеющего своей сферой историю, вырабатывает во мне и
контроль мыслей и инициативу, которая вылезает в жизнь
зрелой позднее уже, а поверхностному наблюдателю
предоставляется созерцать тихого и недалекого мальчика; миф
Ф** о моем идиотизме имеет в видимости прочные корни;
мадемуазель знает, что это не так.
Возвращаюсь к игре, чтобы, покончив с ней, к ней не
возвращаться; она длилась до времени сериозного изучения
Шопенгауэра, Милля и символистов; попутно, ознакомляясь с
"героями" истории, я их обирал, перелагая на свой лад;
"он", выросший из Кожаного Чулка плюс Скобелева, скоро
включил и Суворова; путешествие в Париж в 1896 году было
взятием "им" Парижа (перефасоненная история 1812-1814
годов, но приуроченная к 1896 году); ранее, узнавши о
подвигах Юлия Цезаря и речах сенатора Цицерона, я обобрал
и Цезаря, и Цицерона; но римский Сенат изменился: не
Сенат, а парламент возник; "он" вырвал его у
правительства; надо же было об'яснить себе ежедневное
посещение гимназии: "он" ежедневно ходит в Сенат и не урок
отвечает с парты, а речь произносит; с 1895 года "он"
быстро левеет; продлись игра несколько лет, "он" выступил
бы в роли возглавителя революции, но "он" угас раньше: в
эпоху моего интереса к буддизму, Индии и Шопенгауэру;
последние "его" действия: перепресыщенный внешними
лаврами, "он" удаляется от мира, покупает земли в
Белуджистане и заводит сношения; с ламами, индусами, чтобы
разить английский империализм; на этом-то пути "он" и
заинтересовывается Ведантою и шопенгауэровской ее
транскрипцией; последние следы "его" теряются в слухах о
нем, что он с головой ушел в авторство, пишет стихи,
замышляет невиданные произведения, долженствующие удивить
мир. Далее - краткий перерыв; "его" - нет.
И тотчас же: рождается "Андрей Белый", - то же мое
"второе я".
Повторяю, постановочная арена продумываемой биографии -
226
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
творимая легенда" истории; и тут-то опять совпадаю с
Брюсовым: "Я составлял таблицы своей выдуманной истории" -
пишет Брюсов: я же проигрывал: собственную историю; Брюсов
математик и я, внутренний музыкант, сказались в разном
модулировании той же темы игры.
Скажу: какая же это игра? Это - проснувшийся интерес к
широчайшим проблемам, еще превышающим силы моего
интеллекта; "игрою" я уже к ним подкрадываюсь; и
покушаюсь: по-своему их разрешить; тут я - "символист",
изучающий символизацию: дана дверь детской, дана
необходимость ей найти место в "американских лесах; вывод:
дверь не дверь, а белая скала над вершинами леса; вывод: я
- на скале: так заводится привычка: сидеть на двери
верхом; в годах я непрестанно символизировал; и доходил до
большего и большего совершенства реализовать мои символы;
это сказалось позднее в том, что натуралистические образы
в книгах моих выглядят, как символы; и обратно: символы
мои ищут себе натуралистической подкладки.
И когда я, через несколько лет задумываюсь о символе, то
мне ясно, что символ - триада, где символический образ -
конкретный синтез, где теза - предмет натуры, а антитеза -
сюжетный смысл: мне нечего сочинять символизм, когда у
меня многолетний опыт игры и ряд упражнений в
символизации.
Она - индукция из жизненных фактов.
Я так увлекался игрою, что никакие иные игры не
удовлетворяли меня: ни горелки, ни казаки-разбойники, ни
лото, ни мяч - то игры с правилами.
Я отмечаю игру, разросшуюся в древо символической жизни;
побег древа привез я из Боярок.
Не будь мадемуазель, не процвели бы и игры; она создала
свободу игры; никогда не пыталась узнать сути ее; видя, что
я, слезая с двери, беру атлас и пристально его
рассматриваю, она догадывалась: в целях игры я делаю это;
она доверяла фантазиям игр; под сенью ее мужал в играх.
В октябре 1890 года я заболел легкою формою дифтерита;
мне помнится не столько болезнь, сколько Гоголь, которого
на-
227
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
чала мне читать вслух мать во время болезни: Гоголь -
первая моя любовь среди русских прозаиков; он, как громом,
поразил меня яркостью метафоры и интонацией фразы; весь
сезон 1890 года мать читала мне "Вечера" и "Миргород":
поразил напевный стиль "Бульбы".
Зима проходила легко; ходила учительница; мы писали
диктанты и проходили заново арифметику; с мадемуазель шли
занятия но французскому языку; все давалось легко; с
музыкой улегчилося тем, что мать изредка проверяла занятия
с мадемуазель, которой я и проигрывал сонатины Кюлау,
Клементи; даже матери выучил "Варум" Шумана.
Уже два года шли споры, в какую гимназию меня отдавать;
мать стояла за гимназию Поливанова; отец за первую
казенную; ему хотелось, чтобы я окончил ее, как и oн: с
золотою медалью; он, не получавший "4", а только "5",
решил, что "5" есть мой балл, что потом создало ряд
затруднений.
В тяжбе о гимназии права была мать: я не мыслю себя ни в
какой иной гимназии, кроме Поливановской; один факт встречи
с Л. И. Поливановым считаю счастьем; об этом - ниже.
6. ГРОТ И ЛОПАТИН
В этот сезон помнятся разговоры о Психологическом
обществе; имена Грота, Лопатина звучат постоянно. У нас
появляются эти Гроты; Николай Яковлевич Грот, профессор
философии, недавно появившийся в Москве, импонирует мне
своей внешностью: красивый, бойкий, ласковый и какой-то
мягко громкий! В нем нет скованности математиков; и нет
пустозвонной фразы, столь характерной для иных из "великих
гуманистов" того времени; нет в нем и чванной скуки,
которою обдавал Янжул.
Грот в это время живо волновался рядом философских
вопросов, делами Психологического общества и выработкой
мировоззрения; он отходил от своего позитивистического
"вчера"; и, кажется, очень увлекался экспериментами
Общества психи-
228
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
ческих исследований; об этом обществе я слышу постоянно в
связи с Гротом; и слышу об опытах Шарко.
Помнится: появляется Грот; и начинается разговор о
какой-то "причинности"; отец и Грот говорят - трескуче
громко и жарко; Грот схватывается рукою за кресло и
оправляет свои черные, как вороново крыло, вьющиеся волосы;
его приятная, мягкая борода черно оттеняет бледное лицо с
правильными чертами, прямым носом; а черные глаза сверкают
приятным одушевлением; говорит он меньше отца, но говорит
выразительно: мягким отчетливым грудным голосом, переходя
на теноровые ноты; мне он представлялся каким-то Фигнером,
пустившимся в философию; я изучаю его непроизвольно
актерские, плавные и красивые жесты; и еще более красивые
позы: склонится головою, опершись рукою о колено, поднимет
голову, наморщив лоб; и задумчиво слушает - точно
собирается спеть арию Ленского: "Куда, куда вы удалились,
весны моей златые дни". Выслушает, откинется в кресло,
проведет рукой по кудрям; и все это - красиво; и точно
опять: собирается спеть арию Ленского: "В вашем доме".
Заговорит жарко, убежденно, красивыми фразами; одна рука
делает плавные круги в воздухе, а другою схватывается
нервно за ручку кресла; вот он, забывшись, привскочит; а он
- не привскакивает; говорит с жаром, с сердцем, а не
забывается, как например, мой отец.
Грот - наблюдателен; оглядывает в разговоре наш стол; и
вдруг, выскочив из отвлеченности - к маме с любезным,
житейским вопросом, чего математик не сделает: он как
вопьется очковыми стеклами, так и замерзнет; на стол и не
взглянет; а Грот стол оглядывает; выбирает морское печенье,
заметит меня: улыбнется; математик - сутулый; сюртук, как
на вешалке: руки же - потные часто; сопит и пыхтит. Николай
Яковлевич эластичный, склоняется слева направо и справа
налево красивыми позами; одет прекрасно, в приятнейшем
галстуке, выявляющем весь контраст его белого лица с
черною, как смоль, бородою.
И маме Грот нравится; и - ходит к Гротам; у Гротов, - не
как у иных других: там и романсы поют, и рассказы рассказы-
229
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
вают; Лев Михайлович Лопатин волнуется, и Владимир
Сергеевич Соловьев заливается смехом; и разговоры о
Соловьеве уже переползают из квартиры Гротов и в нашу
квартиру; главное: оттуда заносятся в дом наш весьма
удивительные и страшные разговоры о привидениях, об
исключительных случаях жизни; отец мой помалкивает о
рассказах, а мать потрясена ими, оживлена: интересно у
Гротов!
Я тоже и потрясен, и немного испуган; и через несколько
лет, сунув нос в журнал "Вопросы философии и психологии", я
начинаю оттуда вычитывать все. что касается гипнотизма; и
одна из первых статей, мной прочитанных, - статья Петрово-
Соловово "О телепатии"; но за всеми статьями этими чуется
"интереснейший" Грот; пробую ребенком читать статью Грота;
и натыкаюсь на уже знакомое слово "причинность".
Бывало: сидит математик; робея, косноязычит;
- Видите ли, Николай Васильевич, - пси, фи!
А отец ему:
- Тарарах-тахтахтах... Э, фи и: кси, пси, фи. Тарарах!
Ничего не поймешь: пси, кси, фи!
Не то спор с Н. Я. Гротом; хотя и тут - многоякие виды
причинностей ползают, но из всего получается произносимое
мягко и громко:
- Душа человека!
И Грот мне овеян душою: душевный такой, - моложавым,
красивый; бородка обстрижена мягко: вполне философский
певец он; поет, что причинностью не об'яснишь проявлений
души; очень мама довольна; и - я: тетя Катя выглядывает из-
за двери на очень красивого Грота; причинность же
многоногою сороконожкою видится; эту последнюю знаю по
атласу: брр, как заползает гадина эта, причинность, - меж
нами! Нет, Грот - молодец, что ее отражает; и с Гротом я в
этом вопросе - всецело; я - против отца; тот - не ясен;
зачем защищает причинность под формою сутолочи:
функциональной зависимости? Ох, эти функции! Видел листочки
отца я, исписанные теми функциями: многолапые. как
насекомые; лучше без функций: что функции или
230
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
причинность, - кто скажет? И у причинности есть
бесконечные звенья, как у сороконожки; на каждом эвене -
пара лап; понимаю, что тактика Грота - покончить с
причинностью; тактика же отца - приручить ее; папа хочет
для этого дела призвать математиков, чтобы, как Дуров
свиней, приручили причинность они им не верю: они -
косолапые; и, как начнут приручать бесконечные звенья,
причинность меж рук их, наверное, вышмыгнет; и между
книгами спрячется, чтобы заползать у нас: по ночам.
Так бы символизировал споры отца с Н. Я. Гротом;
метафизической позиции Грота противополагал отец
монадологическую; последнюю понял гораздо позднее:
позицию Грота же - понял мальчонком; встал на нее.
Вероятно, детские восприятия споров оставили след,
когда позже знакомился со статьями "Вопросов философии и
психологии", я искал статей определенного содержания,
воображенного ребенком; вот почему еще позднее я разделял
взгляд на причинность Шопенгауэра; освобождение от
причинности и закона основания познания было пережито за
много лет до понимания этих проблем; в основе переживаний
- фигура Грота, поющая:
- Душа человека!
Главное: Грот так плавно поет, как и Фигнер; поет, - и
печенье заметит, и на меня глядит одобрительно; а мой
отец, зацепляясь за кресло, кидается странно на Грота:
- Позвольте же-с, Николай Яковлевич... А прерывные
функции?.. На основании математики!..
Опять "математика": мама не верит; не верю и я.
Карандашиком он щекочет под носом у Грота; тот примет
картинную позу (и мама довольна, и я); сам отец остается
доволен:
-- Поговорили, да-с, Николаем Яковлевичем!
Грот - красавец: а все же - не ангел; есть "ангел",
который мне видится фарфоровым купидончиком; наверное, у
"ангела" - крылышки; говорят же: "ангел он доброты". Это
- Лев Михай-
231
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
лыч Лопатин, которого "Левушкою" называют; представляю его
ну, конечно же, с крылышками!
"Ангела" наконец, я увидел; и - был потрясен: у него -
не крылышки, а - бородка козлиная, длинная: вносится в
двери задорным тычком; страшноватые красные губы, совсем
как у мавра; очки золотые; под ними ж - овечьи глаза (не то
перепуганные, а не то нас пугающие); лобик маленький
головки маленькой, жидко прикрытой зализанными жидковатыми
волосятами; слабые ручки, перетирающие бессильно друг друга
под бородою протянутою; а идет с перевальцем; переступая с
бессильного плача на бас.
- Хохохо.
И - расплачется дрябленько, жиденько: не то ребенок, не
то просто козлище!
Вот так уж ангел!
Первое впечатление от Лопатина - двойственно; в "ангела
доброты" не уверовал я; испугался его; и, не раз наблюдая
его за столом, размышлял: не отчаянная ли ошибка вкралась
в репутацию "ангела", "добряка"; что странный человек -
да; а что "ангел" - сомнительно; позднее ко мне повернулся
он "добряком"; все расхваливал Бореньку за успехи в
гимназии Поливанова:
- У Николая Васильевича превосходный мальчик.
Поздней, восьмиклассником, я логике учился у Лопатина;
получая сплошные пятерки; странно: у него было скучно
учиться; Поливанов, преподававший логику в седьмом классе,
логику мне зажег; логика Лопатина мне вовсе потухла.
Прошло еще два-три года; Лопатин стал ярым
уничтожителем моей деятельности, отказался
председательствовать на моем реферате; кричал по
московским гостиным, всплескивая рученками:
- У Николая Васильича сын - декадент!
Еще позднее - я, участник его семинария по Лейбницу,
получал от него замаскированные уколы; я был вынужден раз
дать, отпор ему; он - на отпор ничего не ответил мне (был
трусоват);
232
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
года еще через три мы встретились благодушнейше у М. К.
Морозовой, где я встречался с ним почти до смерти его (до
1920 года); впечатление двойственности - не изгладилось;
наши позднейшие разговоры, признаться, не волновали меня;
переменялось ведь отношение к "Белому" у ряда деятелей: у
профессора Хвостова, друга Лопатина, у Е. Н. Трубецкого; М.
К. Морозовой, у которой сидел постоянно он, была моим
другом. Вот почему переменился Лопатин ко мне.
Лопатин, Грот - атмосфера Психологического общества,
охватившая отца с конца восьмидесятых годов; до самой
смерти ходил он на заседания общества: возражать, спорить,
проводить свою монадологию; с математиками не
наговоришься; Янжул - глух; "гуманисты" - болтуны-с... А
Лопатин и Грот за словом в карман не полезут; отец им -
свое; они ему - свое; интересно, точно шахматные турниры с
Чигориным.
И я уже слышу какие-то другие фамилии: Оболенский.
Герье, Сергей Трубецкой и Шишкин.
- Умница этот Шишкин.
Шишкин - физик, читающий доклад в Психологическом
обществе. Однажды в нашей квартире раздается звонок; я
выбегаю в переднюю и натыкаюсь на громадную массу: стоит
гигант, и слон (толщиной); борю да - огромная, белая,-
ниже груди; такие же белые волосы разметаны по плечам. Я
потрясен; все "саваофы", виденные мной на иконах, - ничто
по сравнению с "саваофом" вот этим, "саваоф" обращается ко
мне с каким-то вопросом, а я слышу лишь громко взлетающее:
- Вафф... Вафф...
Прислуга показывает на дверь; и "саваоф", припадая на
громадную ногу (он оказался хромым), вваливается в
столовую; скоро я узнаю: это - Николай Иванович Шишкин,
физик-философ, доказывающий свободу посредством механики:
- Умница, знаешь ли, - радуется мой отец.
Оказывается: Николай Иваныч - учитель Поливановской
гимназии, друг Поливанова, один из основателей гимназии;
ре-
233
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
ферат Шишкина решает мою судьбу: меня отдадут в
Поливановскую гимназию.
7. ПАВЛОВЫ, ЦЕРАССКИЙ, АНУЧИН, СТОЛЕТОВ, ГОНЧАРОВА
В этот сезон мне особенно начинает говорить профессор
геологии, Алексей Петрович Павлов (нынешний академик),
посещающий моего отца; он снискивает мое расположение тем,
что дарит мне прекрасные американские марки; я удивлен; и
столь же обрадован маркам, сколь доброму вниманию Алексея
Петровича: я не привык к конкретному вниманию профессоров.;
Янжул оскорбляет меня предложением взять у него гривенник
(я - не нищий и "на чай" не беру!); Стороженко прищелкнет
под носом с неизменным тарахтом "кургашка" (так ведь для
него "кургашка" - все!); Лахтин, Млодзиевский и прочие на
меня - нуль внимания; а Алексей Петрович, случайно услышав
о том, что у меня коллекция марок, порылся в письмах своих;
и мне навырвал американских марок (с кусками конвертов); я,
хоть и ребенок, однако понял: конкретность внимания; и с
той коры записал его в числе своих друзей; с той поры
Алексей Петрович, изредка пересекая поле жизни моей, всегда
мне является символом чего-то доброго, прекрасного,
честного; с детства я полюбил его явления, верней,
кратковременные забеги к отцу: вот растворяется дверь, и в
комнату входит спешащей, немного подскакивающей походкой,
весь протянувшись вперед, высокий, бледный, встрепанный,
голубоглазый, немного подслеповатый профессор с ласковыми
губами, точно припухшими из-под светлых усов и небольшой
бороды: рассеянно присаживается на кончик стула и,
выхватывая какие-то бумаги из бокового кармана, начинает
быстро, оживленно гудеть и поревывать густым, молодым
басом; слеша высказаться; а глаза1, умные, сериозные,
смотрят из-под болтающегося пенснэ: всегда в прищуре;
Павлов имел вид не выспавшегося человека, не замечающего
этого; и бодро, молодо, осмысленно несущегося из вихря дел
(факультетских) в вихрь дум (научных); или - обратно.
А между тем в его рассеянности есть какая-то присталь-
234
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
ность: рассеянность от прицела внимания в весьма конкретный
предмет; сидит, торопится, выкладывает отцу своя домыслы, а
меня заметит: ласково улыбнется; вот и марки принес, а
никто ему не рассказывал, что марки есть страсть моя и что
я люблю не покупные марки, а марки, вырванные из полученных
писем: и мать заметит; и с нею тепло, сердечно, искренне
переговорит; знал я эти "профессорские" снисходительные
разговоры с дамами, не прошедшими образовательного курса;
уноси ноги от такого "внимания"! А Алексей Петрович говорит
с человеком, как с человеком: всегда в-открытую, всериоз.
со вниманием.
С детства я полюбил бескорыстно явление у нас Алексея
Петровича, гудение его баса, его торопливость; посидит
немного, а впечатлений от него мне, ребенку, - ворох: не
все понимаю, а к чему ни прикоснется, - преинтересно!
И отец говорит:
- Умница Алексей Петрович: прекрасный, благородный
человек... Талантливый ученый!
И мать соглашается:
- Милый Алексея Петрович... Люблю Марью Васильевну...
Марья Васильевна - супруга Алексей Петровича, известный
палеонтолог; у меня с детства - предубеждение против
ученых женщин: а Марья Васильевна - такая живая, чуткая,
интересная умница, что явление ее у нас - мне подарок.
И Павловы у нас бывают; и мать бывает у Павловых: и
Павловы - совсем не то, что другие профессорские "четы".
Позднее, выросши, я понял: Алексей Петрович, ученый
специалист, работающий в науке, науке отдавший жизнь,
кроме всего, - человек широкий; свободный, горящий
бескорыстием интересов; он доказывает, что наука не
суживает кругозора, наоборот, расширяет его, и направляет
взор к живым конкретностям жизни; вот уж про кого не
скажешь, что - "чудак"; не "чудак" - тонкий умница; и
рассеянность в нем не смешна, а нечто, само собой
разумеющееся: рассеянность от пристальности,
сосредоточенности; но итог ее - непредвзятость.
235
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
Алексей Петрович остался в памяти моей, как
непредвзятейший человек; впечатление: его квартира
превратилась в продолжение палеонтологического кабинета; но
и его университетский кабинет - продолжение его квартиры;
Марья Васильевна - и тут и там: там - научный друг Алексея
Петровича; здесь - друг жизни; в квартире Павловых я не
чувствовал никаких признаков того "бытика", о котором у
меня вырываются горькие слова; быт, мещанство, чванство
"традиции" - все это перегорело без остатка в горящей жизни
супругов ученых; и, глядя со стороны на эту жизнь, делается
бодро, молодо, весело: прекрасные, плодотворные, конкретные
жизни двух неразлучек, Марьи Васильевны и Алексея
Петровича. Или они работают в кабинетах, или отдыхают в
путешествиях и научных экскурсиях; кабинет не закрыл
природы; и красота природы ворвалась в кабинет.
Павловы, появляясь везде, нигде не зацеплялись за
сплетни: и душные мороки; я - ребенок, отрок, студент,
декадент, писатель, мировоззритель, - на протяжении многих
лет никогда не менял моего детского впечатления от
Павлова, подарившего американские марки, потому что он
умел всегда как-то дарить: мыслью, улыбкою, непредвзятым
отношением к тому, к чему столь многие относились
предвзято; и, между прочим: он - мог одарить пением: у
него был хороший голос; и он приятно, не чинясь, как
юноша, охотно соглашался пропеть романсы Грига.
Внутренне-строгий к другим, еще более строгий к себе, -
он прекрасно, дельно, конкретно читал нам лекции по
геология (исторической и динамической) над принесенным им
в аудиторию ящиком горных пород; до я упрекаю себя в том,
что недостаточно использовал эти интересные лекции, редко
бывал на них; оно и понятно: ведь с третьего курса я лишь
доканчивал естественный факультет: философия, эстетика,
начинающаяся литературная деятельность привлекали мое
внимание; и, кроме того: химическая лаборатория отнимала
очень много часов; и я, не будучи химиком-спецом, но
проделывая необязательную работу (занятия по
количественному анализу, занятия по орга-
236
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
нической химии), не мог иметь роскоши досуга для посещения
всех лекций; и приходилось невольно выбирать.
Но и простые заходы на лекции Павлова всегда много
давали; а ясность и точность его требований весьма
облегчали приготовления к экзамену у него, что я лично
испытал: тысяча страниц по геологии (пятьсот до
динамической, пятьсот по исторической) одолевались с
усилием, но вполне нормально; и спрашивал он, не гладя по
головке, - просто, благожелательно, непредвзято.
Супруги Павловы мне казались вечно горящими, вечно
спешащими, но всегда конкретными, вдумчивыми; помнится, как
тронула меня Марья Васильевна в эпоху моей максимально
"скандальной" репутации, как позера и декадента-нахала,
участливым интересом к устремлениям тогдашней группы
московских "Аргонавтов".
- Ну да, - сказала она, - повторяется то же явление;
молодежь пробивает дуги; ей не верят, ее травят... Ведь и
мы, некогда молодежь, дрались за Дарвина так, как вы
боретесь за новое искусство.
Меня особенно тронуло неожиданное появление Алексея
Петровича и Марьи Васильевны на моих воскресниках, где
собирались молодые "Аргонавты" и уже более старые
"Скорпионы" (Брюсов, Бальмонт и др.); они явились весело,
просто, "по-хорошему"; и с той поры, изредка появляясь на
воскресеньях, они разделяли охотно для многих "смешанное
общество", - "смешанное", потому что три четверти
посетителей воскресников - т о г д а г о н и м ы е и
обществом, и прессою символисты.
Помнится, - Алексей Петрович пел Грига нам; и - хорошо
пел; веселый галдеж не обрывался при появлении почтенного,
но молодого духом и непредвзятого умницы-профессора.
Более того: Павлов меня расспрашивал о моих интересах и
даже записывал кое-какие книги, которые я ему рекомендовал
прочесть; не забуду одну из последних встреч с ним, когда
высказывались некоторые мысли о возможности
палеонтологической психологии, то-есть о возможности
относиться к слоям полусознания и подсознания, вписанным в
наши психические
237
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
привычки, как к ископаемым пластам. Его коррективы, как
умницы, мне запомнились; и запомнилась непредвзятость, с
которой он допустил возможность такого рода домыслов.
С 1912 года я уже не встречал Павловых; но всегда
радовался, когда вести о них доходили до меня.
В этот период встает передо мною образ покойного
астронома, Витольда Карловича Церасского; худой, высокий,
галантный поляк, он с первой встречи не производил
впечатления профессора, а скорее модного публициста,
острого литературного критика - не без богемства, которого
он не развертывал: в почтенных гостиных, но мог бы при
случае развернуть... в кабарэ; я разумею не содержание его
бесед, чаще всего научных, но стиль целого; не
профессорский стиль, а...а... будто бы знакомый; в романах
Пшибышевского появляются фигуры, подобные Церасскому,
зарисованному извне; его худое, протонченное, нервное лицо
с умными, наблюдательными, далеко не добрыми глазами,
маленькая светлая бородка, высоко закинутая назад голова на
сухощавом, выточенном, длинном теле скорее вызывала
впечатление какого-то польского деятеля искусств, шармера,
которому однако палец в рот не клади: откусит; и кто его
знает: может быть, он - скрывающийся под маскою остряка, -
бомбист-анархист; а, может быть, наоборот, - член святейшей
иезуитской коллегии.
Вид загадочной личности; но - уютный.
Он, как никто, умел брать гамму всех переходов от
пленительного, остроумного собеседника - вверх и вниз;
вниз - до дамского угодника, дон Жуана, умеющего, где
нужно, проткнуть противника фехтовальной шпагой, умеющего,
надев альмавиву и заменив беретом профессорское свое
изможденное лицо, пропеть лунной ночью под чьим-нибудь
балконом:
Я здесь, Инезилья,
Стою под окном.
Изможденное это сухое лицо с темными под глазами
кругами говорило о бессонных ночах; а вот источник
происхожде-
238
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
ния этой бессонницы - неизвестен: просиживание ли ночами
под трубой телескопа, иди бессонные пирушки и разговоры а
ля "Homo Sapiens" Пшибышевского; знали, что это от
астрономии, а не от кутежей; а ведь еще неизвестно, под
каким аспектом глядел на звезды Церасский; и какие-такие
звезды эти. Кто-то его у нас называл "звездочетом"; и в нем
было нечто от "Звездочета"; помню младенцем седого
Бредихина, которого называли "астрономом"; когда он
переехал на Пулковскую обсерваторию, у нас появился остро-
сухой и прытко-веселый Витольд Карлович - не как астроном,
a как "звездочет"; и позднее мне с фигурой его в острой
барашковой, высокой шапке, напоминающей высокий колпак,
связывалось скорее представление о средневековом астрологе,
тем более, что он принимал эту кличку "звездочет" и легко
ею как бы кокетничал... перед дамами.
Я воспринял его появление, как нечто романтическое: он,
по-моему, должен был быть астрономом с фантазиями, с
порывами улететь на луну; и вместе с тем, он мне
ассоциировался с "поляком"; вот - "поляк", вот - нечто
"вечно - польское"; а с "вечно-польским" ассоциировалось:
мазурка, скепсис, лицемерие, талантливость, но немного и
пустоцветность в самом блеске таланта.
Такую имел я ребенком фантазию о "поляке". Ребенку, мне,
Церасский старался подмигивать и подщелкивать: и всегда
давал понять, что мы бы с ним, возьми я его в игру, могли
бы доиграться до весьма интересных моментов; это
впечатлена таинственной интересности все росло во мне по
мере того, как я подрастал; появлений его я ждал; и он
вызывал во мне большой интерес к нему. Мало кто мне так
нравился, как Церасский; Церасский и Павлов - мои любимые
профессора в детстве; и знал ли я, что такое прекрасное
начало знакомства окончится так плачевно, что теза нашей
встречи оборвется на антитезе без всякого синтеза, что
воспоминание об обаятельном профессоре останется одним из
горчайших воспоминаний и что, не без усилия, вспоминая
нашу последнюю встречу, я сдерживаю порыв искреннего
негодования.
239
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
Помнится, как он усиленно звал мою мать на башню, в
обсерваторию:
- Приезжайте, когда хотите: выбирайте чистую лунную
ночь и приезжайте без стеснения... Я вам покажу звезды и
луну.
Мать так и сделала: в 1890 или 1891 году в одну из
чистых лунных ночей она, взяв меня, поехала к Церасским на
Пресню; нас встретило разочарование, или сухая, не очень
приветливая мадам Церасская, нам заявившая:
- Витольд Карлович сидит, запершись на башне; и,
вероятно, просидит всю ночь...
- И нельзя его никак известить?
- Никак! Он строго нам заказал - раз навсегда: только
смерть да пожар - предлог вызвать его; даже, если бы я
заболела смертельно, и то я не могу оторвать Витольда
Карловича от его научных занятий.
Мы посмотрели на окна; ночь - чиста; счастье увидеть
ведущую нас звезду так близко в виде огромного купола и
трубы под ним, вперенной из купольного разреза в небо; а -
надо ехать обратно; вдруг входит Церасский в высокой шапке
колпаком, с приподнятым воротником пальто, с фонарем в
руке - такой таинственный, интересный (оказалось, - он
забыл какой-то предмет и вернулся домой за ним); увидав
нас, он сделал одну из своих очаровательных поз, поцеловал
ручку матери; и - воскликнул:
- Вот и прекрасно. Вы не могли б выбрать ночи
благоприятней... Сегодня луна такая, что - ооо! - помахал
он рукой с фонарем, и оборвал сам себя, - идемте...
Он таинственно вывел нас в сад и повел по ослепительно
белой дорожке; сбоку высился маленький куполок маленькой
обсерваторийки:
- Здесь сидит мой помощник, Штернберг (1), - сказал
Церасский: и повел прямо к большому куполу; мы высоко под-
(1) Впоследствии профессор астрономии, деятельный большевик и
деятельный боец в Октябрьские дни.
240
|
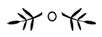
|
|
|
 |

