 |
|
|
|
 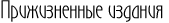
<<< Предыдущий блок :: Следующий блок >>>
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
вялясь по таинственной, винтовой лестнице; и оказались под
куполом на самой вершине, перед гигантищем-телескопом;
здесь все манипуляции "звездочета" приняли фантастический
отпечаток: он что-то начал вертеть; и весь купол поехал:
вокруг нас своим прощепом неба к трубе, а труба начала
подниматься.
Более двух часов пленительный "поляк", став пленительным
звездочетом, с непередаваемой любезностью и деликатным
вниманием показывал нам и Сатурн, и Вегу, и двойные
звезды, и луну по-всякому, сопровождая показ красочной
лекцией, доступной и мне, ребенку; а как предупредителен
был он! Показывая то или иное матери, он давал ей
раз'яснение одним языком; показывая мне, он менял
выражения, интонации; и как бы подмигивал:
"Так-то, брат, вот, если бы не твоя мать, мы бы с тобой
вылетели в трубу; и ринулись к звездам".
И у меня создалось впечатление, что только мать
помешала тому, чтобы Витольд Карлович мне предложил сесть
к нему верхом на шею и, ухватив меня за ноги, добрым конем
ринуться из прощепа купола: к звезде Веге. Полумрак
купола, черная, сухощавая фигура Церасского в колпаке,
качающийся в его руке фонарь усиливали впечатление.
Таинственность "звездочета" и интерес к нему выросли
после этого посещения обсерватории.
Прошли года.
Я студентом, бывало, видел Церасского в толпе студентов
и профессоров, пересекающим серый коридор из большой
математической аудитории в профессорскую; он казался еще
суше, еще истомленнее; цвет лица (его стал зеленоватый;
нос - заострился; круги под глазами увеличились вдвое;
бородка уменьшились; в ней появилась середина; какой-то
средневековый аскет с надменной позой... бреттера;
строгое, злое, протонченное лицо! Разглядывая его, я
думал, что было бы, если бы Церасский встретился в
гостиной со Станиславом Пшибышевским; он, вероятно,
очаровав Пшибышевского, последовал бы за ним
241
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
в пивную, подглядеть за стаканом пива подноготную
Пшибышевского, чтобы на другой день с характерно-надменным
закидом головы подписать свою фамилию под адресом,
выражающим просвещенное негодование его всем этим жалким
декадентам. И я думал; Церасский, вероятно, умеет со всяким
шутить, как кошка с мышкою; мышка - дама, журналист,
студент-ученик, декадент, кто угодно; и в нужный момент
умеет ловко в игре перекусить горло; он - думал я - умеет
наступать на мозоли не так, как иные, не невзначай; узнает,
на каком пальце мозоль, и потом, проходя с легким, не
внимающим видом, пристукнет мозоль не пяткою, а гвоздем
каблука; и даже не повернет головы на вскрик боли.
Таким он мне виделся, когда он в аспекте профессора
выходил из аудитории: уже не очаровательный поляк, а из
меди вылитый римский полководец: типичное латинское, а не
славянское лицо!
Прошло полтора года: вышла моя "Симфония"; псевдоним -
открылся; я стал декадентом; густой взвой брани стоял
вокруг меня, не только сверстников, не только публицистов
и газетчиков, но и большинства тех, у кого я сиживал на
коленях; иные из профессоров-учителей провожали меня
сердито-возмущенными глазами, но не Церасский, любезно
раскланивавшийся и менявший вид римского полководца на
персонаж из романа Пшибышевского; Григорий Алексеевич
Рачинский, с которым недавно я познакомился и который один
из немногих сказал "да" моим стремленьям, при встречах
все-то подмигивал мне:
- Обратите внимание на профессора Церасского; он очень
многое понимает.
Или:
- Церасский, тот - умница.
На лекции Касперовича, поляка-модерниста, я, к
изумлению, среди декадентской публики встречаю поляка
Церасского; в перерыве, увидев меня, он подходит ко мне и,
точно подмигивая, говорит:
- Знаете что, - я хотел бы, с вами поговорить;
пойдемте-ка
242
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
после лекции в пивную; выпьем бутылочку; за бутылочкой и
поговорим.
Я был сердечно тронут вниманием высокоуважаемого
профессора, такого надменного в университете, выпить
бутылочку со студентом, да еще проклинаемым декадентом; но
я никак не мог удовлетворить это желание в виду присутствия
матери, не допускавшей, чтобы я посещал; пивные; главное: у
меня не было ни гроша денег; а как признаться профессору в
таких мизерных, интимных обстоятельствах.
Я, сконфузившись, пробормотал отказ; и не забуду
пристально сухого, латинского взгляда, с которым
"звездочет" молча отошел от меня; мне стало неловко, точно
я сделал какой-то гадкий поступок; но взгляд профессора
был только еще нажимом мозоли носком: каблук ждал меня!
Через два месяца умер отец; мне приходилось по делам,
связанным с этой кончиною, бывать в университете (у
Лахтина и у ректора Тихомирова); однажды, взбегая по
пустым университетским лестницам, я чуть не налетел на
спускающегося по этим лестницам сухого, зеленого, точно
вылитого, точно вылитого из меди Церасского-"императора";
я - кланяюсь; вместо ответа вздергивается сухая бородка,
откидывается назад голова; и я вижу шествующий мимо
меня... кадык профессорского горла; перед этим в меня
втыкаются мстительные, злые глазенки двумя оскорбительными
укусами.
И потом уже проносится зеленый, изможденный профиль с
заострившимся, как у трупа, носом.
Интонация этого прохода с незамечанием меня напоминает
мне не проход генерала, не замечающего пешки, а проход
"генералиссимуса", с высоты триумфа оплевывающего подлеца,
которому он только что подписал приговор.
И мне становится понятным подобного же рода проход мимо
меня к гробу отца этого же профессора; хотя я был удручен
горем, и мне не было дела до интонаций, однако я удивился;
даже несочувствующие мне, вовсе далекие профессора,
подходили и высказывали соболезнование мне и матери; а
профессор
243
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
Цераcский, только что звавший в пивную "интимно"
поговорить, плевом в меня шел к гробу отца.
Истинно латинское умение владеть гаммой своих выражений:
от шapмepa до... оплевателя.
В этот год я делаюсь весьма наблюдательным; и уже целый
ряд лиц живо проходит передо мною.
Я очень люблю такого ласкового, рассеянного, черного,
как жук, загорелого, профессора, Николая Егоровича
Жуковского, которого очень любит отец мой и который все
придумывает какие-то летательные крылья; когда, бывало,
среди гостей появляется Николай Егорович, то лица всех
точно просвещаются улыбкой, а он, помахивая руками и
поматывая чернобородою головой, переваливаясь идет мимо
столовой в гостиную и заливается тонким смехом-плачем
своим; такой грузный, такой тяжелый, а плачет, как
женщина, или заливается тонким распевочным ладом громкой,
даже пронзительной фразы своей.
- И знаете, - взвизгивает по-женски, - в соотношении -
ударение на слове "соотношение"; потом пауза.
- Этом.
- Глубочайшая пауза.
- Наахооооодим, - уже настоящее причитание.
Прийдет и точно оплачет квартиру; голос плачет, лицо же
с прищуренными глазами сияет детской улыбкою.
Анучин - маленький, беленький старичок; лицо - красное;
нос - огромен; лобик маленький, красный, в поперечных
морщинках, как рачья шейка; волосы - дыбом, бородка с
прожелтью (особенно под усами); глазки - крошечные,
хитренькие, голубые; смотрит - исподлобья; всегда
помалкивает; и у нас за столом сидит на углу, точно
собираясь встать; мне он с угла всегда делал тихие,
незаметные знаки, меня интригующие: морщил лоб, но -
нестрашно; и хватался за нос, - за распухший, за красный,
основное впечатление от Дмитрия Николаевича - доброта, но
не без сарказма, хитринки, осторожности; доброта -
доминировала; что доминировала именно доброта, я узнал уже
244
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
поздней на себе: Дмитрий Николаевич, редактор "Русских
Ведомостей" и профессор, принимавший от меня кандидатское
сочинение, меня выручил во всех смыслах в минуту, когда
другой "дядя", спутник детства, меня окончательно утопил:
мстительно, со смаком; топил - Эрнест Егорович Лейст;
спасал - Дмитрий Николаевич Анучин; и я тем более
благодарен последнему, что он резко отрицательно относился
к моей деятельности "Андрея Белого", не только как
профессор "старого стиля", но и как представитель редакции
меня уничтожавшей газеты.
Дмитрий Николаевич выручил после того, как Лейст мне
поставил "2"; поставил же он "2" за то, что я, им сбитый с
толку (а он "мстительно" сбивал с толку), сказал в полном
самозабвении, что вода кипит при... нуле(?!?).
Тогда вмешался Анучин, заставив меня рассказать ему мой
билет, и спас; природная доброта Дмитрия Николаевича
победила в нем принципиальную оппозицию.
Своего длиннобородого палача, Лейста, я помню с 1890
года уже; он неизменно являлся в праздничные дни и поражал
меня... бородою, цилиндром, белым кашнэ и тем, с каким
официальным (немного тупым) почтением он передо мною
расшаркивался и жал руку, точно он был Боренькой, а я
профессором Лейстом; ребенком я удивлялся неуместной
почтительности этого бородача, его немецкому акценту и
оголтелому, глуповатому виду, с которым он сидел на
диване, не произнося ни слова; другие говорили, а Лейст
хлопал глазами и тряс бородой; отец с детства внушил мне:
метеорология - не наука, а сборник анекдотических фактов,
и дразнил Лейста инженером Демчинским:
- У того, пусть неверная теория о влиянии лунных фаз на
погоду, - а все же попытка объяснить факты: у вас же нет и
этих попыток!
Наслушавшись таких речей, метеорологию я презрел, как
презрел Лейста за оголтелый вид и за немотивированное
официальное почтение ко мне, ребенку; знал ли я, что Лейст
- мой будущий фатум; не спаси Анучин, я провалился бы; а
прова-
245
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
лись, - у меня не было б терпения вторично проделать
церемонию государственного экзамена.
К Лейсту и к Анучину я еще вернусь.
Помню я и рыжебородого, добродушнейшего Александра
Павловича Сабанеева; о нем, как о профессоре, - ниже; в
1890 году он меня сильно интересовал тем, что терпел
крестные муки от "разбойника" Марковникова; "разбойник"
Марковников гнал тихого Александра Павловича из
лаборатории; Александр Павлович плакался у нас на свои
беды; муки Александра Павловича менее интересовали меня;
более всего интересовали проделки, откалываемые
Марковниковым; и я внимал рассказам отца о факультетских
заседаниях, на которых ему, как декану, приходилось спасать
то того, то другого от Столетова и Марковникова.
Профессор Марковников - стародавняя гроза профессоров
физико-химического отделения факультета; и минотавр,
бегающий с ревом по коридорам лаборатории: посадить на
рога профессора Сабанеева в девяностых годах и профессора
Зелинского в девятисотых годах; в эпоху, когда я, студент
лаборатории, его видывал (в лаборатории) он был уже - гром
без молнии, или вепрь без клыка; вырыв клыка у
Марковникова - смерть профессора Столетова; профессор
Столетов и был - клык; и не Марковников нападал, выгонял и
бил копытом-ботиком, нагнув голову, а Столетов-
Марковников; вернее - Столетов, спускавший с цепи
Марковникова, ибо Столетов - нападал с толком, с чувством,
с расстановкой, а Марковников нападал уже без толка; и -
ломал клык, уступая территорию лаборатории Николаю
Дмитриевичу Зелинскому; от нападений Столетова на
заседаниях расстраивались сердца, случались истерики,
профессора пускались в паническое бегство, а декан-Бугаев
проявлял чудеса ловкости - спасти положение: защитить
обиженного от обидчиков так, чтобы не получить удара в
грудь клыком Марковникова и чтобы Марковников сам себе не
сломал клыка, то-есть чтобы Столетов сам посадил
Марковникова на цепь.
При мне уже Марковников без клыка являл грустное зре-
246
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
лище красного апоплексического старика в меховой шапке,
выскакивающего из недр коридора; выскочит, постоит,
посопит; и спрячется.
Голова скандалов - Столетов; он - охотник; Марковников -
спускаемый с цепи (да простит мне знаменитейший химик
вульгарные уподобления)... не пес, а -... кречет.
Диада Марковников-Столетов иногда становилась триадою:
Столетов-Марковников-Соколов (Соколов - профессор физики);
триаде противополагался - весь факультет; но иногда весь
факультет обращался в бегство перед триадою: и декан-
Бугаев в длинной веренице лет так научился находиться в
перманентном скандале и с таким веселым: юмором
рассказывал за столом о факультетских побоищах, что
побоища меня перестали удивлять; и я думал, что
факультетское заседание и есть побоище.
Положение это кончилось смертью Столетова; умер
Столетов, притих Соколов, Зелинский выучился фортификации;
и Марковников удалился в коридорное недро, из глубины
которого изредка раздавались лишь его глухие стенанья (их
и я слышал!).
Знаменитый профессор Столетов: крупный физик, умница,
чудак, экзаменационная гроза; помню его, как в густом
тумане; я его видел строго молчащим в рое профессоров;
выделялись другие фигуры, занимая воображение; и -
стушевывался образ Столетова; помню строгие глаза, очерк
бороды, очки; не скажешь, что - гроза и что - Илья Муромец
факультетских заседаний; но я знал: это- весьма опасный
атаман весьма опасной тройки; он устроил подобие
Запорожской Сечи в университетском государстве; и отец,
коронный гетман, вынужден защищать факультет от походов
"вольницы"; и потому-то неясные контуры Столетова
выглядели, как штиль перед ураганищем.
Я знал: студенты идут к Столетову не экзаменоваться, а-
резаться; никакое знание, понимание не гарантирует от
зареза; в программе экзаменов профессор настроит ряд
ужасных засад, которые способны преодолеть смелость, а
вовсе не знание; вопросы профессора:
247
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
- Отчего блоха прыгать не может?
Молчание: двойка.
Надо отвечать:
- От абсолютно гладкой поверхности.
Засада - в каламбуре смешения слов "отчего" и "от чего";
кто поймет "от чего" в смысле "почему", - получит двойку.
Еще вопрос:
- Что будет с градусником, если его выкинуть на
мостовую с третьего этажа?
Ответ:
- Разобьется.
Двойка.
Надо было анализировать состояние ртутного столба
градусника, а не стекло футляра, а тут - каламбур
(градусник, как стеклянный инструмент, и градусник, как
вместилище ртути).
Перед каждым экзаменом Столетов сочинял новые каламбуры,
меняя их; и посыпал билет перцем каламбура; не знание
предмета, а остроумие и умение смаковать каламбур решали
вопрос: "пять", или - "два".
В странном методе экзаменовать сказывалось какое-то
тихо-грозное юродство в умнице-профессоре.
У нас появлялся Столетов прередко, вполне неожиданно,
безо всякого дела; и - не один, а... в сопровождении
неизвестного чудака (всегда - нового, потом исчезающего
бесследно); приведенная Столетовым к отцу странная
личность развертывала веер юродств; а Столетов, бывало,
сидит, молчит и зорко наблюдает: впечатление от юродств
приведенной им к отцу личности; насладившись зрелищем
изумления отца перед показанным ему чудачеством, профессор
Столетов удаляется: надолго; и потом - как снег на голову:
появляется с новым, никому неизвестным чудаком.
Почему-то явление к Столетову чудаков вызывало в нем
всегда ту же мысль: надо бы с чудаком зайти к профессору
Бугаеву.
Факультетские истории, взметаемые Столетовым,
сплетались
248
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
в сплошную "историю" (без конца и начала): Столетов виделся
мне охотником крупной дичи, спускающим двух гончих,
Марковникова и Соколова; и то я видел: спасающегося в
бегство Сабанеева, в виде большого верблюда, то видел я Н.
Д. Зелинского, мчащегося в виде испуганной антилопы; то сам
И. А. Умов в виде огромного, пушистого овцебыка пересекал:
поле зрения; за ними - мчащийся лев-Марковников; шли -
подкрадывающийся Столетов-тигр; и отец возвращался с
заседаний оживленный, но... нисколько не возмущенный;
защищая от Столетова факультетский фронт, отец и кричал, и
сжимал кулаки, и срывал с себя салфетку (за обедом); а
приняв меры к защите, с добродушием поперчивал суп и лукаво
потирал руки; не без сочувствия к скандалистам он
приговаривал:
- Да-с, что поделаешь: бедный Александр Павлович!
И мне не до конца верилось, чтобы отец действительно до
мозга костей думал, что Александр Павлович - космический
"овен", ужаленный Столетовым-"скорпионом"; и мне думалось:
"Не игpa ли это в солдатики?"
Отец не ходил в театры, и потребность к зрелищам, может
быть, изживалась в нем неожиданными с ю ж е т а м и,
подносимыми Столетовым; поздней я увидел, что Столетов -
мифолог-режиссер, сочиняющий мистерии заседаний так, как
сочинял каламбуры, или приводил к отцу чудаков; потом я
убедился, что к Столетову отец относился и как к
драматургу, скрашивающему серые будни "деловых засидов"
(до геморроя); он, как декан, возмущался Столетовым, а как
зритель, любовался его молодечеством; об ученых заслугах
Столетова он имел очень высокое мнение; о заслугах
Марковникова - тоже.
Об Алекюандре Павловиче Сабанееве, тащимом в профессора
Усовым и отцом, может быть, он был того же мнения, как
Столетов о приводимом к нам "чудаке"; Сабанеев был не
столько почтенным ученым, сколько amicus ex machina для
ряда деятелей; Усов и папа похохатывали:
- "Чудак Александр Павлович".
249
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
Может быть, привод Столетовым к отцу чудаков означал
символический разговор:
- Ваш чудак-Сабанеев и в подметки не годится этому вот
чудачищу!
Отец любил Столетова; любил и Марковникова; и поздней я
расслушивал в выкрике с надсадой прямо-таки нежность по
адресу буянов:
- А Марковников со Столетовым опять заварили кашу.
Может быть, на его языке это означало:
"А Мейерхольд-то: задумал новую постановку...
Преинтересно".
После смерти Столетова не было на факультете "буянств";
и отзывы отца о заседаниях стали небрежны; видно, ему на
них стало скучно; то ли дело - "столетовские" времена!
В течение девяностого года, а может и годом paнee, помню
я приезд из Петербурга академика Имшенецкого, профессора
Любимова и ботаника Бекетова; петербургские гости обедали
у нас; Имшенецкий с дочерью, бледной болезненной барышнею,
мне скорее понравился: благообразный, высокий, седой и
приветливый; Любимов - маленький, бритый, с чиновною
светскостью (он не понравился мне); и пленил Андрей
Николаевич Бекетов, седейший, добрейший старик с длинными
волосами, с большой бородою; в нем мне прозвучало что-то
приветливо мягкое, нежное, очень спокойное; как он сидел,
головою откинувшись в кресло и длинные руки распластывая
на кресельных ручках и как он поглядывал, - все мне
внушало доверие; вокруг него я вертелся; и скоро уже у
него меж коленей стоял, а он гладил меня и сердечно, и
бережно; и посадил на колени; и я с них сходить не хотел;
так знакомству с поэтом, Александром Блоком,
предшествовало знакомство с дедом его (Бекетов - дед
Блока).
Вообще, в этом сезоне - обилие лиц, внятно врезанных в
память: Петр Михайлович Покровский, ученик отца,
впоследствии профессор в Киеве (брат филолога М. М.
Покровского),
250
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
в этом году появлялся взволнованный и недовольный; он похож
был на брата филолога, только черты лица - резче, грубее;
лицо же - краснее; казалось мне странным, что он математик,
как, например, Селиванов или Егоров; те - тихие; а Петр
Михайлович - умный, живой, забияка; он - спорил с отцом;
он, привскакивая со стула, большими шагами шагал, критикуя
порядки; физик П. В. Преображенский, Григорий Дмитриевич
ВолконскиЙ, Иван Николаевич Горожанкин и ряд других лиц
предо мной проходили.
Особенно памятна А. С. Гончарова, любимица, даже
гордость отца, утверждавшего: некогда он заинтересовал Анну
Сергеевну вопросами психологии, да так, что она, поехав в
Париж и окончив Сорбонну, стала доктором философии, была
лично знакома с Шарко, с Ринге и с Бутру; она, первая из
женщин, взошла на Монблан; и после этого триумфа: - явилась
в Москву; часто бывала у нас; она - та самая Гончарова, то-
ееть из семьи жены Пушкина; и, даже: разглядывая портреты
сестер Гончаровых, отчетливо можно было восстановить все
черты фамильного сходства, взяв исходною точкою лицо сестры
Натальи Николаевны, жены Дантеса; те же гладкие темные
волосы, так же на уши зачесанные; и та же, так сказать,
носолобость; то-есть отсутствие грани меж носом и лбом;
казалось: лицо бежит в нос; нос огромный у Анны Сергеевны,
умный и хищный; глаза - оживленные, темные; только: она
являла уродливейшую карикатуру даже не на Наталью
Николаевну, а на: некрасивую сестру ее; эта была бы ангелом
красоты перед Анной Сергеевною; редко я видел лицо
некрасивей; спасала огромная одушевленность и брызжущая
интеллектуальность; являлся к нам, она часами умнейше
трещала с отцом на труднейшие философские темы; отец
оживлялся; он очень ценил Гончарову; когда-то он принимал
живейшее участие в спешном образовании двоюродного брата А.
С., робкого Павла Николаевича Батюшкова, поступившего в
университет и часто являвшегося к нам; П. Н. - внучек поэта
Батюшкова; Гончарова и Батюшков в начале девятьсотых годов
отдались теософии; пока же слова такого не
251
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
было в лексиконе у Анны Сергеевны; но слово "психология"
склонялось во всех падежах; и склонялось во всех падежах
слово "гипнотизм"; Анна Сергеевна мне была приятна умом и
той ласковостью, с которой она относилась ко мне; скоро она
подарила мне в прекрасном переплете "Из царства пернатых"
профессора Кайгородова; и с той поры подымается во мне не
прекращающееся несколько лет увлечение птицами; Анна
Сергеевна покровительствовала моему увлечению
естествознанием и от времени до времени подаривала за
книгою книгу, посвященную царствам природы.
Раз я был на детском вечере у Гончаровых; и даже
танцовал с очень хорошенькой племянницей Анны Сергеевны
(дочерыю сестры ее).
8 ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ КАБЛУКОВ
Не помню, как возник передо мною, ребенком, Иван
Алексеевич; как-то он тихо и вкрадчиво завелся, появляясь
у нас; может быть, это случилось и позднее описываемого
периода; но вместе с Павловым, Церасским, А. С. Гончаровой
встает Каблуков.
Постоянный посетитель симфонических собраний, премьер
Малого театра, юбилеев, выставок, посетитель всех квартир
в Москве, считающихся почему-то интересными., появился он
и у нас; я его помню - приват-доцентом, старательно
одетым, в светлосерых панталонах и с постоянно натянутою,
темнокоричневой перчаткой на левой руке; ее он не снимал в
комнате; a в праздничные дни вижу огромный, черный цилиндр
Ивана Алексеевича, с которым, если память не изменяет, он
входил в комнаты; до его появления у нас я слышал о нем; и
я его видывал; он бывал ведь везде: у Щегляевых, Танеевых,
Усовых, Сабанеевых, Стороженок; у отца было какое-то
особое, свое, отношение к Ивану Алексеевичу, точно они
где-то, когда-то, в чем-то разошлись, что не хочет
замазать отец; Иван Алексеевич - такой ласковый, утонченно
предупредительный, точно он не ученый, а светский угодник.
252
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
Мое впечатление: Иван Алексеевич был более гостем
матери, чем отца.
Каблуков поражал меня огромнейшей головою своею с
вьющимися, каштановыми волосами затылка и с вечною лысиною;
поражал основательным туловищем; кабы ему соответственные
ноги, он был бы гигантом; а ног-то и не было; были совсем
коротышки; росток - небольшой; напоминал приземистого,
земляного, тяжелого гнома, хотя ростом - не гном (роста
среднего): ноги его по точному вымерению были короче, чем
следует, на две каблуковских головы; принимая во внимание
весьма большую, тяжелую голову и бороду не небольшую,
укорочение ног поражало весьма.
Думалось: не Ванька ли Ветанька он (Ванька-Встанька -
безногий)?
В те годы он был каштановый, не седосерый; лицо -
бледноватое; а утиный нос сиял: краснотцой; он не столь
перепутывал звуки согласных; и менее ронял слов; весьма
скромно держался; ходил с перевальцем, таким церемонно-
достойным; сюртук был застегнут (с пренизкою талией).
Слишком изысканным для неизысканной вовсе фигуры виделся
каблуковский сюртук; было старание быть несколько
манерным, пленительным; это не шло ему: ни цилиндр, ни
перчатки никак не увязывалися с утиной походкою; а
красноносое, гномье лицо не увязывалося с претензией быть
кавалером при дамах; Иван Алексеевич подчеркивал тоном:
ученый - видит пленительность дамского личика и дамский
наряд; голову гордо закинув, прищурив кабаньи какие-то
глазки свои, рот широкий раздвинув улыбкой, Иван
Алексеевич переваливался, бывало, в концертах за дамами,
им услуги оказывая.
Мать к нему обращалась свободно, как будто главнейшая
функция его - стоять у кассы, билет доставать, а не лекции
читать:
- Иван Алексеевич, достаньте мне то-то и то-то.
И он, предовольный возможностью новой услуги, подергивал
красным носом и рот раздвигал; и скрежущим, точно
оржавленым голосом, резко покрикивал, перетирая пальцы:
253
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
- Отчего же-c... Возможно-с...
Билет доставался.
Иван Алексеевич, став профессором Сельскохозяйственного
института, церемонно являлся к матери; и нем же
заржавленным голосом торжественно приглашал мать в недра
лаборатории, к опытам, и инсценируя, точно пред
многотысячной аудиторией: он сжимал моей матери воздух;
путаясь в выборе гласных, согласных, научно он ей об'яснял
принципы замораживания:
- Ты что ж - поняла?
- Я? Ни слова... А воздух - такой голубой, как водица
прозрачного озера...
И мать с тетей Катею покровительственно начинали
смеяться; всегда повторялось:
- Такой он услужливый.
Иван Алексеевич часто бывал у нас после смерти отца,
появляясь и на мои "символические" вечеринки в эпоху 1903 -
1906 годов; общество декадентов и буйственность шума,
пapодий, инсценируемых Эллисом, не смущали его; и мы не
смущались нисколько явлением профессора в стан "декадентов"
(ходил во все станы он); появляясь, он позировал Эллису; у
Эллиса был просто спорт: передразнивать. Высмотрев модель,
Эллис к модели коварно подсаживался; покручивая усики,
начинал с моделью сериознейший разговор; и высматривал:
позы и жесты; так изучал он Иванова, Брюсова, профессора
Хвостова; и Иван Алексеевич ему моделировал; потом по
московским гостиным зациркулировал бесподобнейший номер,
разыгрываемый Эллисом; назывался же номер: "Иван Алексеевич
Каблуков". Номер Этот демонстрировался не раз: у меня, у
Владимировых, у Шпетта, д'Альгеймов, у Щукиных, Метнеров,
Астровых, у Христофоровой, в бедном номере "Дона", где жил
автор инсценировки; потом даже Эллиса приглашали вполне
незнакомые люди на номера "Каблуков", или "лекция
Хвостова", иль "реферат Вячеслава Иванова"; большинство
анекдотов о путанице слов и букв Каблукова, теперь уж
классических, имеют источником не Каблукова, а импровизацию
Эллиса; импровизировал он
254
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
На основании скрупулезнейшего изучения модели; и шарж его
был реален в своей художественности; я утверждаю:
знаменитая каблуковcкая фраза не принадлежит профессору:
"Знаменитый химик Лавуазье - я, то-есть не я: совсем не
то... Делал опыты: лопа колбнула, и кусочек глаза попал в
стекло" (вместо "колба лопнула, и кусочек стекла попал в
глаз"); выражения "совсем не то" и "я, то-есть, не я" -
обычные словечки Каблукова; эта фраза - цитата из блестящей
импровизации Эллиса, как и приписываемое Каблукову
"Мендельшуткин" вместо "Менделеев и Меньшуткин", - тоже
цитата: из той же пародии.
Эллис из Каблукова создал миф, повторяемый и в наши дни,
как сделал он миф из лекции Хвостова "О свободе воли",
которую прочитал во всех домах Москвы до... объявления
Хвостовым (?!?) лекции этой в Психологическом обществе, лет
эдак через семь, когда Эллиса и дух простыл; помнящие
блестящий номер Эллиса и бывшие в Психологическом обществе
выходили из залы заседания, не умея сдержать смеха, потому
что Хвостов в блаженном неведении о пародии на него лекций
"О свободе воли" своей лишь повторял пародию Эллиса
настолько Эллис шаржировал в духе им досконально изученного
подлинника.
В девяностых годах приват-доцент Каблуков еще не вполне
стал "профессором Каблуковым" девятисотых годов; он был
молчаливей, подтянутей, чопорней, развивая
предупредительную элегантность; по мере того, как старел и
важнел Каблуков, расплывался он как-то; перчатка - исчезла;
сюртук - расстегнулся; от цилиндра же не осталось помина:
промятая широкополая черная шляпа на нем появилася; и -
ширококрылая крылатка, в которой, покачиваясь на улице,
точно барахтался он; Каблуков утолщался, серел, становясь
все приземистее; нос пылал с откровенною яркостью; и
выгибались ноги; голова же седеющая престепенно
откидывалась, губы сжались и выпятились, точно кислое что-
то отведал он; он приобрел теперь вид настоящей брюзги; и
немного неряхи. Являяся в гости, уже не держался у стенки,
не вскакивал предупредительнейше перед дамой, чтоб
255
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
стул предоставить ей, перегибая талию его стянувшего
сюртука; появляясь в дверях настоящей брюзгою, без талии, с
явно болтающимися полами незастегнутого сюртука,
переваливаясь и не глядя направо-налево, - шел прямо он в
кресло, чтоб в нем распластаться, капризно играя пенснэ и
дугой выгнув ноги; он не так уже вслушивался в громкий
говор застольных речей, не прицеливался к разговору, как
прежде, чтоб вставить с волнением слово в него; севши в
кресло, совсем не прислушавшись к речи, которую перебивал
он, довольно некстати, пререзко, прегромко высказывал
мненье свое о вопросе, в который часто и не был совсем
посвящен; в девяностых годах, соглашался ласково со
стариками, порой принимая журьбу их, теперь, в девятисотых
годах, сам журил он неласково и придирался, прочитывая
несвоевременные наставления.
Первый образ его связан мне с посещеньем журфиксов
родителей; второй с посещением моих воскресений, где
собиралася молодежь (художники, литераторы, поэты,
критики); в этот период в нем расковалась престранно речь;
и он потерял способность произнести внятно простую фразу,
впадая в психологические, звуковые и этимологические
чудовищности, которыми он себя обессмертил в Москве; и
желая произнести сочетание слов "химия и физика",
произносил "химика и физия"; и тут же, спохватываясь, -
"совсем не то", - начинал раз'яснять новыми
чудовищностями; в которых "я", то-есть совсем не "я"
фигурировало то и дело.
В Иване Алексеевиче было много беззлобного, вполне
добродушного; вот уж кто не мог внушить никому страха (за
исключением "Каблукова, ассистента на экзаменах": тот
внушал страх) его обильные щипки, нотации, им читаемые
молодежи, вызывали веселый, дружный, добродушный смех; он,
не обижаясь нисколько, продолжал назидания; нападение его
на нас не походило на нападение коршуна на кур; скорее
напоминал он увязавшуюся за курами одинокую, дотошно
крякающую утку; есть утки такие; привяжутся к курам, и
ходят, и ходят, и ходят за ними; и дергают хвостиком; и
крякают - даже щипаться пытаются (уточ-
256
|
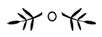
|
|
|
 |

