 |
|
|
|
 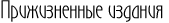
<<< Предыдущий блок :: Следующий блок >>>
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
схоластику, а как чтение прекраснейших описаний природы из
русских классиков, с рисовкой конструкций, с выучиванием на
зубок особенно вычурных в своем строении фраз; и всегда с
пленительными дополнениями: если разучивался отрывок
"Констанцское озеро" или "Рейнский водопад", то - описание
природы Швейцарии, пропетое Поливановым; с ни с чем не
сравнимою интонацией. Я ахнуть не успел, как одолел русский
синтаксис, потому что не скучные формы одолевались, а
теория композиции, показанная на образцовых примерах.
Еще не зная, что есть с т и л ь, мы получали вкус к
стилю фразы.
В четвертом классе также одолевалась труднейшая и
скучнейшая грамматика древне-болгарского языка; но в нее
Поливановым ввинчивался сравнительно-филологический
стержень; труднейшие формы стягивались к немногим узлам
превращения звуков и форм; давалась таблица превращений, в
которой "юс" отправлялся на Ваганьково, и мы приступали с
легкостью к трудному разбору форм Остромирова Евангелия; у
нас оказывалась великолепная постановка уха к формам; и мы
владели самою осью разбора, как пьянисты, не
останавливающиеся от чтения "а ливр увер" и не связанные
трудностью овладения композицией.
Пятый класс: и перед нами срывалась завеса с древних
памятников русской словесности; и слово епископа Иллариона
воспринималось во всей красоте его реторической готики; над
"Словом о аголку Игореве" мы сидели не менее полутора
месяцев; мы ощупывали метафору за метафорой; тонкие пальцы
Льва Ивановича бегали при этом по столу, вылепливая
метафору; и в результате я должен признаться:
Моих ушей коснулся он, -
И их наполнил шум и звон.
"Шум и звон" - звуковые краски и ритмы "Слова". Здесь
должен сделать признание тем из слушателей моих курсов,
которые не раз трогали меня, вспоминая с благодарно-
289
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
стью мои лекции, ощупывающие живое слово; если я кого живым
словом Пушкина, Гоголя, Боратынского, Тютчева зажигал, то
зажигал лишь ощупью словесного материала; а умению
ощупывать слово учился я у несравненного, дорогого учителя
моего, Льва Ивановича, уроки которого, чем я старее, тем с
большей живостью встают предо мною; не приписывая себе
ничего, тем не менее скажу с гордостью: я ученик класса
словесности Поливанова, и как воспитанник "Бугаев", и как
"Андрей Белый".
Чем старше был класс, тем более Поливановым вводилось в
урок - не идеологии, а каких-то кусков живых ландшафтов
культурного мироощущения; так: при изучении средств
изобразительности разбор отрывка "Чуден Днепр при тихой
погоде" Поливановым красотой и глубиной своей живет во мне,
как самая красота гоголевского отрывка.
Месяца полтора (до или после чтения "Антигоны") мы с
Поливановым проходили учение о драме Аристотеля,
вытверживая на зубок тексты Аристотеля и выслушивая
тончайший анализ их, - проходили сверх обязательной
программы, то-есть "казенщины" (по зычному вскрику Льва
Ивановича); за это время: перед нами вставал не только
Аристотель, не только драматическая культура греков, -
вставало значение театра, как рычага и конденсатора
культуры; давался попутно анализ театра, вырастали фигуры
Росси, Сальвини, Мунэ-Сюлли в характеристике Поливанова
(вплоть до имитации их жестов); мы перекидывались к Малому
театру; мы выслушивали критику современного репертуара,
анализ игры Ермоловой; и, когда прошли эти полтора месяца,
что-то изменилось в нашей душе: не только Аристотель,
Софокл, Эврипид стояли живыми перед нами, но и мы
оказывались живыми оценщиками театрального зрелища в
зрительном зале Малого театра. С этого момента начиналось
наше как бы культурное сотрудничество со Львом Ивановичем.
Для меня этот период особенно связан с постановкою в
гимназии учениками двух старших классов отрывков из
"Гамлета", "Генриха IV" и "Камоэнса" Жуковского, то-есть с
репетицией ко субботам, на которой мы, не участвовавшие в
спектакле, при-
290
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
сутствовали, то-есть присутствовали при скрупулезном
разборе игры и воспроизведения этой игры режиссером Львом
Ивановичем; на эти субботники сбегались: ученики старших
классов, поливановцы-студенты, учителя, участники
"Шекспировского кружка", превосходный артист (бывший
поливановец) Владимир Михайлович Лопатин, некогда лучший и
незаменимый Фальстаф, об игре которого с уважением
отзывается Лев Толстой; и вот - выступали вместе с
подмосток сцены: семиклассники Голицын, Перфильев,
восьмиклассники Бочков, Фохт, студент-поливановец Попов,
учитель Вельский и сам ставший уже историческим Фальстафом,
Фальстаф-Лопатин в роли Фальстафа. За режиссерским столом
сидел Поливанов (верней не сидел, а вскакивал из-за него,
вмешиваясь в игру), Владимир Егорович Гиацинтов (наш
"шекспирист", учитель истории и географии (1) отец артистки
С. В. Гиацинтовой; А. М. Сливицкий, наш учитель и
незабвенный автор столь детьми любимых "Волчьей дубравы" и
"Разоренного гнезда", и кто-нибудь из старых членов
"Шекспировского кружка": или А. А. Венкстерн (шекспирист,
пушкинист, отец писательницы), или сам... притащившийся из
дебрей философии профессор Л. М. Лопатин (тоже шекспирист).
На этих репетициях упразднялись все грани между старшими
и младшими учениками и учителями; Лев Иванович вдохновенно
показывал, как Генрих IV .должен разгульно разваливаться на
трактирном столе.
Мы, не игравшие, смотрели во все глаза; и потом
начинались уже "наши" постановки кусочков Шекспира на дому,
у себя например, - в квартире М. С. Соловьева, о чем не без
удовольствия узнавал Поливанов, всегда гордившийся
культурными устремлениями своих учеников, как о том
свидетельствует письмо его педагогу Никольскому: "В самом
деле, что за VIII и VII классы у нас! Это просто прелесть:
вообразите, сами собою... развив в себе интересы высшего
порядка, они собираются и читают сериозные рефераты... Есть
даже крайности (напр.,
(1) Потом заведующий Музея изящных искусств.
291
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
Брюсов читает Спинозу!). Кн. Голицын.., учась усердно,
сумел найти время и горячее желание изучать Данта. VII
класс... увлекается лириками (напр. Тибуллом и
Катуллом)..." (Валерий Брюсов: "Из моей жизни".)
"Дорогой учитель, - увлекались, потому что нельзя не
увлечься там, где увлекали нас вы!"
Так бы я ответил на это письмо директора, увлеченного
своими воспитанниками.
В этом взаимном увлечении возник некогда "Шекспировский
кружок", из стен гимназии развившийся в культурное дело,
ставший одно время очагом шекспировского культа, давший ряд
талантливых исполнителей (поливановец Лопатин, поливановец
Садовский, ставший потом артистом Малого театра), очень
ценимый шекспиристом С. А. Юрьевым, писателем Тургеневым,
профессором Усовым и другими.
"Ученичество" у Поливанова выливалось в сотрудничество с
ним учеников не раз; прочно помнят блестящую "постановку"
пушкинских торжеств в восьмидесятом году (одна речь
Достоевского чего стоит!), а не все знают, что бремя
организации и выполнения торжеств легло на Л. И. Поливанова
и что это бремя с ним разделяли ученики восьмого класса его
гимназии.
И уж так устанавливалось, что, когда кончали гимназию,
становились членами "Общества бывших воспитанников
Поливановской гимназии" и получали сердечное приглашение
Льва Ивановича бывать у него на его традиционных
"субботах"; бывали студентами; бывали - позднее;
"поливановцы" в свое время секта, имеющая предметом культа
любовь ко Льву Ивановичу.
Любили его без оглядки, всемерно: любили - лучшие
лучшими сторонами души; эта любовь охватывала, как
пожаром, развиваясь медленно на протяжении восьми лет, по
мере того, как он охватывал нас на уроках все большими и
большими горизонтами, поднимая перед нами в ответственный
возраст пробуждения половой зрелости высоко человеческий,
чистый и прекрасный образ женщины, которую он, старик,
нас, юношей,
292
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
призывал любить под аккомпанемент Шиллеровских баллад, нам
читаемых; он выковывал веру в мужество и силу человека
крича нам, что "диплом" - ерунда, коли с этим дипломом
заблуждает по миру угашенное сознание; он приоткрывал нам
тайны театра.
И все это - на своих несравнимых ни с чем уроках.
Но главное, за что любили его, во что верили, что не
сразу осознавалось, но что ощущалось с первой встречи
особенным вздрогом всего существа: он нас насквозь видел;
эта уверенность, что видит насквозь, что не проведешь
никакими подслуживаньями, не удивишь падением совести, - не
питалась ничем видимым; он производил впечатление лишь
увлеченного уроком педагога, урок спрашивающего, урок
объясняющего; но и спрашивал, и об'яснял он индивидуально;
и - главное: индивидуально реагировал на поступки и
проступки; никто не мог сказать, как отнесется "Лев" к тому
или иному явлению нашей жизни.
Он был весьма неожиданен, но не субъективен; в его
мгновенных реакциях на то или иное чувствовалась реакция на
когда-то продуманное и узнанное об ученике, на которого он,
видимо, не обращал внимания.
В очень ответственных достижениях и падениях он настигал
нас неожиданною судьбою; - и его резолюции, хотя
неожиданные, казались неоспоримыми.
В них-то и выявлялись необычайная его проницательность и
умение подойти к душе воспитанника с братской помощью.
Не удивлялись видимой его несправедливости, ибо в ней
изживала себя высшая справедливость; и когда ученик впадал
в, казалось бы, непростительный грех, а "Лев", потомив его
будто бы незамечанием греха и вызвав в нем процесс
раскаяия, вдруг нападал со спины благородством "невменения
в вину", не говорили, что "Лев" не справедлив, зная, что
удар по душе благородством, перевернет павшее сознание и
останется в нем жить - в годах; когда этого кризиса
сознания нельзя было произвести и он проницательно видел
начало не-
293
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
исправимого "декаданса", то, придравшись к ничтожному
поводу, он мог исключить воспитанника; и не роптали, не
ставили вопроса:
"За что?"
В этом доверии к парадоксальной форме выявления
отношений, в вариациях темы, всегда спрятанной в боковом
кармане, и изживало себя ощущение:
"Поливанова - не проведешь видимостью: он видит -
насквозь!"
Отсюда этот трепет страха: "гроза" гимназии был "грозой"
очищающей, грозой весенней, ведущей к очищению атмосферы,
или "грозой", ударяющей по прямому проводу, если она
очистить уже но могла. И тогда бросалось короткое с
выбросом бумаг в лицо:
"Вот-с ваши бумаги!"
И несчастный, багровый от неожиданного потрясения,
вылетал из гимназии: навсегда.
В старших классах из действий этой индивидуальной,
моральной фантазии высекался в нашей душе свет любви,
благодарности и сердечного жара, с которым мы, бывшие
поливановцы, встретившись друг с другом и узнав друг друга,
тотчас же переводили разговор на "Льва", как это было со
мной, уже в 1925 году, когда я, встретив артиста Лужского у
Б. Пильняка, от него услышал:
- А вы поливановец?
- Да!
- Я тоже одно время учился у "Льва".
И разговор перешел на любимого, незабываемого учителя.
Я бы мог долго распространяться о Л. И. Поливанове; но,
связанный временем, местом и темою, должен себя оборвать;
скажу лишь: сложные и порой незадачливые годы гимназической
жизни от первого и до последнего класса пронизаны, точно
молнией, импульсом Льва Ивановича; идя за его гробом, я,
взрослый юноша', самостоятельный "символист", показываю-
294
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
щий "фигу" авторитетам своего времени, проливал горчайшие
слезы; и не старался их скрыть.
Мне казалось: во мне самом погасла светлейшая искра,
меня вдохновлявшая.
2. ПОЛИВАНОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ
Поливановская гимназия и Поливанов - были в одном
отношении имманентны друг другу; в другом -
трансцендентны; имманентны так точно, как рама, приятно
обрамляющая картину, лежит в той же плоскости; и -
трансцендентны: хотя и прекрасная рама, а все же не
произведение Рафаэля.
Если казенные гимназии - топорное дубье, то гимназия По-
ливановская все ж - произведение художественное,
продуманное со знанием дела и выполненное вполне честно;
Поливанов же вкладывал душу в нее; но в нем не жил
социальный организатор: лишь изумительный педагог и
учитель, действующий от сердца к сердцу; и не во всех
деталях гимназия воплощала стиль Поливанова; она была
скорей местом встречи ученика с директором; и за это мы
окончившие гимназию, приносим ей горячую благодарность.
Кроме того: в девяностых годах она была лучшей
московской гимназией; в ней отрицалась "казенщина"; состав
преподавателей был довольно высок; преподаватели
принадлежали к лучшему московскому, культурному кругу; не
одною силою педагогических дарований, их должно оценивать,
а фактом, что человек, интересующийся культурою, в них
доминировал над только "учителем"; были в учителях, и
жалкие остатки от "человека в футляре"; но "человек в
футляре" - явление заурядное в те года; остатки футляров
ютились в теневых углах, боясь Поливанова и
педагогического совета в его целом, но где являлись
преподаватели казенных гимназий, не могло не быть пыли,
приносимой из "казенного учреждения" на форменных
сюртуках; все ж: человечность, культурность подчеркивались
во всем стиле преподавания: и подчеркивалась личность
ученика: и трафарет сверху не так мертвил душу; трафарет
295
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
же снизу, приносимый воспитанниками из родительских
квартир ,- давал себя знать.
Поливановская гимназия противополагалась казенным;
противополагалась и Креймановской, не говоря о Лицее; в
Лицей попадали от нас немногие, прокисшие "сливки общества"
(то-есть именующие себя таковым), аристократы, снобы или
тянущиеся за ними; Поливановская гимназия все ж была не для
них; от Креймана попадали к нам лучшие элементы, не
мирящиеся с Креймановским составом, подчеркнуто буржуазным;
пример - Брюсов; прочтите, какою тоской веет от его
креймановских впечатлении; наоборот, появляются бодрые,
здоровые ноты чисто гимназических интересов в гимназии
Поливанова. Вот выписки из "Дневников" Брюсова за время
окончания им гимназии Поливанова (VII и VIII классы):
"Толковал Щербатову о дифференциальном исчислении". (11
апреля 1891 года.) "Сначала заходил Станюкович. Вечером у
меня Щербатов и Иноевс... Потом Никольский, И. А. Нюниин...
Споры. Удавшийся литературный вечер". (12 апреля.) "Пишу,
пишу и пишу "Кантемира". (Ноября 3.) Окончил "Кантемира"
(Ноября 5). "Начал драму "Любовь" (Ноября 13); это выписки
из "Дневников" за 1891 год; за 1892 год: "Читал... "Моцарта
и Сальери" (Март, 18); "Купил Оссиана и Нибелунгов. Вечер
на "Гамлете" (Март, 22); "Сегодня я писал "Юлия Цезаря",
изучал итальянский язык, разрабатывал "Помпея Beликого"...
Читал Грота и Паскаля, разбирал Козлова и отдыхал на
любимом Спинозе. Надо работать! Надо что-нибудь сделать!"
(Июль, 28); "Перевел пьесу Метерлинка" "L'intruse"
(Сентябрь, 7).
Весь период пребывания в Поливановской гимназии испещрен
отметками о себе; и эти отметки свидетельствуют о высших
интересах; наоборот: период Креймановской гимназии,
зарисованный в "Днях моей жизни", - стон о бессмыслии и
пошловатые разглагольствований о кафэ.
Поливановекий период обрывает в Брюсове пошлость; я
думаю, что это - влияние гимназии.
296
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
Во-первых, состав учеников: с иными из них у Брюcова
завязываются культурные связи (у Креймана - ни с кем!);
Брюсов зажил в гимназии, о чем сам пишет: "В общем живу
гимназией" (Октябрь, 29); "В четверг вечером был у меня
Станюкович. Читал... ему... "Каракаллу"; "Толковал
Щербатову о дифференциальном исчислении". (Апрель, 12);
"Весною... увлекался Спинозою. Всюду появилась этика, а
Яковлев стал пантеистом. Осенью я взялся за Мережковского.
Все начали читать "Символы"... и т. д.; "Все" -
поливановцы; приводимые фамилии принадлежат соклассникам;
Щербатова, Ясюнинского, Яковлева - я хорошо помню. Из ряда
записей гимназиста Брюсова видно, что его интересы были в
контакте с классом; и этот культурный коллектив юношей был
в общении с преподавателями.
"Кедрину показал теорему. Тот восхищался"; "Вчера с
Сатиным и Ясюнинским был у Аппельрота. Толковали"; "Читал
Фуксу свое стихотворение. Тот - Поливанову" и т. д. Кедрин
- учитель математики; Аппельрот - учитель латыни, которого
особенно ценил Брюсов; Фукс - учитель истории. Поливанов
живо реагирует на перевод Брюсовым из Верлэна - критикой,
написанной в стихах, под заглавием "Покаяния лжепоэта-
француза"; "Входит хладно Лев и подает записку. Читаю:
Пародия" Ч Поливанов резюмирует ее строфой:
Запутался смысл всех речей:
Жуковского cлyx мой уж слышал.
Но Фофанов (слов любодей) -
Увы! - из Жуковского вышел.
Брюсов защищается от нападок директора перед учителем
Фуксом; и отвечает Поливанову:
В моих стихах смысл не осмыслив,
Меня ты мышью обозвал,
И, измышляя образ мысли.
Стихи без мысли написал.
(1) Все цитаты из "Дневников".
297
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
Но отношения меж директором и воспитанником не портятся
от обмена пародиями; и через несколько дней Брюсов заносит
в "Дневники": "Утром очаровал Льва Ив. ответом о Дельвиге";
через несколько лет, готовясь к государственному экзамену,
он заносит: "Жалею, что не пошел на похороны". (Похороны
Поливанова).
Я нарочно ссылаюсь не на себя, а на Брюсова; Брюсов,
натура холодная, настроенная в эти годы едко-критически,
зарисовывает отметками культурную атмосферу Поливановской
гимназии; Брюсов и Поливанов - лед и пламень: что общего? А
рука Брюсова не заносится над Львом Ивановичем; Брюсов
отворачивается: и скорей благодушно.
Поливановскую гимназию я считаю безо всяких иллюзий
лучшей московской гимназией своего времени, даже скинув со
счета такое исключительное явление, как сам Лев Иванович;
но, сказав так, - оговариваюсь: далеко не во всем она была
пронизана поливановским ритмом; и там, где она не
пронизывалась этим ритмом, она имела и много недостатков;
например, Поливанов был воплощенной, двуногой
педагогической системой; каждый жест его был систематичен
в своей конкретности; но именно пребывая в конкретном, он
никогда не сформулировал своей системы в абстрактных
лозунгах; может быть, - и не умел, как, например,
Мейерхольд, умеющий великолепно поставить пьесу и не
умеющий об'яснить своей постановки. Поэтому: коллектив
преподавателей был обречен на коллекционирование
"традиций" не данной системы; это были - словечки, ритмы,
жесты, вспыхивающие как мимолетные молнии; "традиция"
молний - рутина, может быть, новая, поливановская; но
Поливанов - враг традиций (в том числе собственных);
отсюда - роковая неувязка: меж Поливановым и гимназией,
имевшей долю поливановского консерватизма и не выдвигавшей
радикально лозунгов новой школы; "казенщина",
осуществляемая во всероссийском масштабе, висела ужасною
пылью над всей Москвою; коли на улице пыль, то из форточки
вместо воздуха она и ворвется; и в гимназии, с открытой
форточкой, не изжилась пыль.
298
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
Вопреки Поливанову, вопреки ряду талантливых и живых
педагогов, вопреки группе учеников, одушевленных высшими
интересами, эта пыль "конца века" носилась в воздухе; в
девяностых годах она была и злой, и бронхитной;
окончательно разлагалась система Толстого, воняя миазмами;
никакая частная гимназия, охваченная тисками
предплевевского режима, не могла стать фабрикою озона в то
время.
Наконец, - главным разлагающим гимназию ("минус"
Поливанов!) фактором был состав учеников; что могли бы
предпринять двадцать честных, культурных педагогов,
влюбленных в жесты Поливанова, но не имеющих системы
жестов, против напора двухсот родительских квартир с мной
описанным "бытиком", выносимым двумястами мальчиками,
приносившими с собою и воздух квартир; верхушка, то-есть
педагогический совет, был несомненно выше среднего уровня
московской интеллигенции; но на призыв верхушки к культуре
(добрый, но слабый) откликалась верхушка лишь в виде
воспитанников Яковлева и Брюсова, читающих Спинозу. Не
читающие "Спинозы" отваливались, создавая в стенах гимназии
пошловатую атмосферу, пусть менее пошлую, чем в других
гимназиях; все ж - достаточно пошлую.
Гимназия - не при чем: катилась по наклону гимназическая
система; и вместе с ней не могла не склоняться к закату и
Поливановская гимназия; оставаясь рамою Поливанова, она
была все же рамой, то-есть не до конца преодоленным
футляром.
Социальные замашки воспитанников во многом перевешивали
добрый, культурный, но слабый совет; Поливанов, восхищая
совет, отдавался индивидуальным заданиям воспитания
(этого, того) и преподавания; но и он не мог сдвинуть
гимназии, как социального целого, с косной точки.
Среди преподавателей моего времени был ряд интересных,
умных, честных, порой прекрасных и очень культурных
личностей: таков физик-философ Шишкин, великолепный
преподаватель, но отвернувшийся от всяких социальных
заданий: умница (ленивая умница!) "грек" П. П. Колосов,
старичок, любящий детей, и весьма далекий от запросов
юношества, вялый, как
299
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
преподаватель, интересный, как человек, Е. Н. Кедрин
(математик); метеором блеснувший, В. Г. Аппельрот;
превосходный учитель русского языка, талантливый чтец и
переводчик "Калевалы" Л. П. Бельский; отдавшийся интересам
эстетики и театра и оттого рассеянный, как учитель истории
и географии, В. Е. Гиацинтов; удивительно даровитый педагог
и прекрасный учитель греческого языка А. С. Владимирский (к
несчастию, заваленный уроками в казенных гимназиях); милый
детский писатель А. П. СливицкиЙ; говорят, весьма
интересный и очень любимый Янчин, до меня умерший
(известный автор учебников географии) и другие; университет
был достаточно представлен преподавательским персоналом
своего времени: логику в восьмом классе преподавал
профессор Лопатин; латынь преподавали: проф. М. М.
Покровский, проф. В. Г. Зубков, приват-доцент Стрельцов;
историю - будущий проф. Ю. В. Готье.
Преподавательский персонал был и культурен, и интересен;
а все же: в целом звезд не хватали; отдельные интересные
попытки преподавания не увязывались в определенную "новую
систему".
Состав воспитанников?
Он слагался из разных групп; ядро коллектива - дети
верхов русской интеллигенции, часто профессорской, часто
дети либеральных немцев, крупных и средних помещиков; было
много детей, родители которых отдавались вольным
профессия; были и дети, вышедшие из демократической среды,
но- меньше (относительно высокая плата, 200 рублей,
отрезывала многим доступ в гимназию; и это, разумеется,
жаль); вот этот-то дворянски-помещичий отпечаток и являлся
"штампом" коллектива, перевариваемым гимназией с огромным
трудом, и далеко не всегда, далеко не цельно.
Среди профессорских сыновей, обучаюшихся в мое время,
помню: сыновей проф. Эрисмана, проф. Зубкова, проф. П. И
Стороженко, проф. Снегирева, проф. Поспелова, проф.
Пусторослева, проф. Огнева, проф. Грота и др.; из
представителей либерально-интеллигенческих фамилий отмечу:
Колюбакина.
300
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
Родичева, Петрункевичей, Бакуниных, Сухотиных, Дьяковых,
Сатиных, Колокольцовых, Духовских и т. д; здесь же учились
одно время и дети Льва Толстого, М. Л. и А. Л. (Лев
Львович кончил Поливановскую гимназию до меня, и я его уже
помню студентом).
Менее была представлена аристократия (кн. Голицыны, граф
Бутурлин и т. д.) и промышленная буржуазия (И. И. Щукин,
будущий министр промышленности А. И. Коновалов);
аристократия более гнездилась в Лицее, а буржуазия у
Креймана. И тем не менее, за вычетом кружков, отдавшихся
высшим интересам, социальный состав поливановцев -
тяжеловатый состав, вызывавший вскоре же после моего
поступления тяжелую оскомину и напылявший мне яркие вспышки
поливановских молний (об этом - ниже).
Были из'яны и в преподавательском составе; не понимаю,
как Лев Иванович не видел, что участие в преподавании К.
К. Павликовского - грубая ошибка стиля; в ответ на
удивление по поводу явления Павликовского, говорят, Л. И.
сказал:
- У меня он никогда не выявит своих замашек, а латынь он
знает прекрасно.
Может быть, К. К. и знал латынь, и "замашек" не выявлял;
"замашки" - то обстоятельство, что он был известен в
Москве, как "гроза" в качестве преподавателя латыни в
первой казенной гимназии; о его преследовании учеников и
придирчивости ходили легенды; но я, учась у сей грозы семь
лет (латыни и немецкому языку), должен сказать: никаких
явных преследований мы не видели; и уж если кто кого явно
преследовал, так это порой мы его, а не он нас;
преследовали, потому что его не любили; не любили за то,
что он засаривал головы, подымал кавардаки, отбил от латыни
и не мог ничего путного об'яснить (при всем знании латыни);
но это "замашки" уже иного рода; "замашек" преследователя,
он, дико боявшийся Поливанова, конечно, не смел выявить; во
он их, так сказать, вогнал внутрь себя, нагоняя странную,
весьма странную атмосферу на класс, в результате чего иные
из нервных начинали видеть кошмары; отноше-
301
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
ния их с Павликовским принимали такой сумбурный характер,
что ни они, ни сам Павликовский уже не могли разобраться в
том, что собственно происходит и кто в происходящем
повинен.
Я имел несчастие быть в числе "жертв", пораженных
атмосферою, распространяемой К. К. до такой степени, что
отец мой позднее жаловался на К. К. физику Шишкину; и не я
один могу отметить этот факт ощущения вечной борьбы с
Павликовским (не фактической, а борьбы взглядов,
интонаций, взаимно друг другу посылаемых угроз); то же
испытывал и С. М. Соловьев, имевший несчастье к нему
попасть; то же испытывал и Э. К. Метнер, в 1902 году
рассказывавший эпопею своей "борьбы" с К. К. в бытность
учеником первой гимназии, где К. К. упражнялся и в
"грозовых" своих действиях; Э. К. вынужден был уйти из
первой гимназии, откуда многие бежали из-за Павликовского;
один из таких "несчастливцев", бежав от К. К., попал в наш
класс: вообразите его кислейшее недоумение, когда он на
уроке латыни увидел перед собою своего старинного
гонителя, но уже в роли "негонителя". Он скоро исчез от
нас.
Оговариваюсь: я лично не видел никаких фактических
гонений; передавали, что в частной жизни К. К. - скромный,
порядочный человек, скорее передовых взглядов (в смысле
политики); но нечто от Передонова, "плюс" человека в
футляре, "плюс" многое кой-чего, что я затрудняюсь
определить (от юродствующего шута горохового, косноязычного
придиры, от даже знаменитого "скорлупчатого насекомого"
бреда Ипполита из "Идиота"), - в нем жило; но центр
выявленья этого столь многого - психика, не осознанная ни
им, ни учениками; в результате - сумбур вечного
недоразумения и пугающего изумления; будто бы человек: и
лицо человечье, и членораздельная речь, и все, как у иных
других, а кажется, что то - маскарад, что какой-то
обитатель не нашей солнечной системы, свалившись на землю,
сшил себе человекоподобную оболочку и выучил свою роль,
явившись к нам: ее разыгрывать; мы - не верим; мы ждем:
оболочка прорвется; из дыры носовой вытянется длинный
жучиный хоботок
302
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
(противно ползать по нашей коже); из дыры разорванных
человечьих глаз выставятся насекомьи глазенки, а
старомодный фрак с золотыми пуговицами превратится в
скорлупчатый эпидермис.
И знаменитое "скорлупчатое насекомое" из бреда Ипполита
учинит бред классу.
А бреда не было.
Ссылаюсь в описании этой субъективной импрессии не на
себя, а на поэта С. М. Соловьева и на Э. К. Метнера, мне
сходственно характеризовавшего К. К.
И вот я не понимаю, как мог Л. И. Поливанов, столь
тонкий чтец детских сердец, допустить циркуляцию такой
импрессии в детских душах; не о "гонении" на нас
Павликовского шла речь, а о губительном впечатлении, им в
нас оставляемом.
А что касается до его знания латыни, - не сомневаюсь в;
нем, не сомневаюсь, что он любил латинских поэтов и
гутировал стилистику цицероновых речей; но гутировал для
себя, выражая свои восторги не внятным истолкованием, или
ощупью формы, а повышением голоса о редких, тонких, носовых
и довольно гнусного тембра вскриков, лишь сотрясавших
психику; как вскрик Поливанова высекал свет понимания, так
вскрик Павликовского убивал всякое понимание, водворяя
нудный хаос; и все становилось - не "впрочет": к ужасу его
и нас; начинались взаимные бестолковые обвинения: учителя
учеников, учеников учителя; он подбегал к недоумевающему и
противным, коричневым, согнутым пальцем постукивал по его
голове с вывизгом отчаяния и бессильной злости:
- Слышь, - ты, голова!
Что означало.
"Дубовая голова!"
В ответ на что воспитанник с уже пробивающимися усиками
бросал книгу и кричал на него, подчас ударяя кулаком по
парте:
- А вы не ругайтесь!
Я, тихий юноша, раз проорал на весь класс:
303
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
I- Это чорт знает что!
В ответ он, согнувшись в три погибели, подбежал ко мне
(совсем, как "скорлупчатое" громадное насекомое) и ущипнул
за одежду двумя стальными пальцами, тащил из класса, а я,
вырвавшись, не ушел; и он - отстал.
В таких безобразных сценах топились остатки понимания
латыни (самого ответственного предмета!); и дело кончилось
жалобой отца на него: Павликовский-де меня преследовал, что
- неправда, ибо в тяжелом безобразии уроков нельзя было
понять, кто кого преследовал; ни он не хотел преследовать
нас, ни мы его, а взаимные преследования, терзания
усугублялись, выявляя не "класс латыни", а тяжелейшие,
болезненнейшие страницы Достоевского в роде схватывания
зубами за ухо Николаем Ставрогиным известной личности; чем-
то мучительно извращенным веяло на этих уроках: не то -
психическая тупость, не то- психический садизм с больший
дозою передоновщины.
И так семь долгих лет!
Жаль, что латынь, так прекрасно показанная Л. И.
Поливановым в первом классе, бесследно погибла для меня со
второго класса; и я, легко справляясь с греческим, не
только не мог ничего понять, но - непонимание мое росло
семь долгих лет; и, удивляя Л. П. Вельского своим
логизированием, получая "пять" у строжайшего и тоже
иррационального Поливанова, не боясь в пять раз более
строгого по требованиям А. С. Владимирского, я превращался
на уроках латыни в тупейшего идиотика; и не я один, а -
весь класс; требования к нам К. К. были минимальны; а мы,
при всех усилиях эти требования удовлетворить, все более и
более их не удовлетворяли; с каждым классом К. К. спускал
требования, а ножницы между их минимумом и нами росли; и
мы систематически углублялись в дебри незнания от
непонимания (семь лет углублялись!); достаточно сказать,
что "3" было высшим баллом по устному, что "2" средним
баллом по письменному; с завистью смотрели на редких
счастливцев, получавших за экстемпоралиа "3" с двумя
минусами и с надписью: "крайне слабо"; тетрадки наши
были
304
|
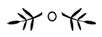
|
|
|
 |

