 |
|
|
|
 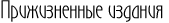
<<< Предыдущий блок :: Следующий блок >>>
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
Стороженко не клюнул бы; про Стороженко ни разу не
слышал я от отца, что он - "умная бестия".
- Да-с, Николай Ильич, так сказать...
И - наступало: стыдливо-неловкое молчание; его вывод из
критики болтунов - отказ от критики; и - улет в
пифагорейство, в беспартийный индивидуализм, в одном
совпадающий с либералами, в другом с консерваторами, в
третьем залетающий левее левых; рычаг критики - его
философия, социологическая база которой была
аритмологична; а проповедывал он, применяя сократический
метод и им прижимая к углу, чтобы водрузить над прижатым
стяг "монадологии".
В университете действовал он одиночкой, не примыкая к
группам (правым и левым); отношения со студентами были
хорошие; он деканствовал множество лет; спорил с левыми, а
левые его уважали; не забуду, с какой сердечностью К.А.
Тимирязев читал ему адрес в день юбилея Математического
общества, ставшего его юбилеем; многие его
"консервативные" выкрики в спорах объяснимы борьбой с
"задопятовщиной"; от "Задопятовых" мутило его, а на
"зубров" сжимал кулаки.
- Педераст! - слышался надтреснутый крик его.- А этот
хам перед ним лакействует...
"Педераст" - другого именования не было для великого
князя Сергея.
- Расшатывает мальчишка все!
"Мальчишка" - Николай.
- Позвольте-с, да это ерунда-с! - кричал на министра
Делянова; и Делянов - терпел: с Бугаевым ничего не
поделаешь; лучше его обойти, а то шуму не оберешься.
Множество лет посылали его председателем экзаменационной
комиссии на государственные испытания: в Харьков, в
Петербург, в Киев, в Одессу, в Казань; ни одного инцидента!
Студенты провожали на поезд приезжего председателя;
последний год председательствовал он в Москве - на нашем
экзамене; тут я его изучил, как председателя комиссии; он
был - неподражаем; другие являлися - олимпийствовать и
отсиживать, нацепивши
33
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
"звёзды"; он жe являлся на экзамен первым; и тут же,
подцепив студента, начинал с ним бродить, что-либо
развивать; так длилось до конца экзамена; председательское
место пустовало; из кучки обступивших его студентов неслось
- надтреснутое (он был уже болен):
- Стыдитесь, батюшка: идите-ка, - тащите билет.
- Не пойду, Николай Васильич: не хочу срамиться...
- А вы осрамитесь: не работали, а мужества осрамиться
нет; ну что ж такого: осрамитесь, и - кончено.
И взяв за рукав, он подтаскивал упирающегося к
экзаменационному столу, пошучивая и взбадривая; делалось
как-то легко и просто: тот, у кого душа ушла в пятки,
тащил билет, отвечал; кой-как; "председатель", выставив
нос из кучки студентов, поднимал очки двумя пальцами,
интересуясь судьбой его:
- Ну, - как-с?
- Выдержал...
- Вот видите: а вы - говорите...
И шел предовольный; и подмаршовывал, выпятив живот и
заложив за спину руки; и уже опять раздавалось:
- У Спенсера... У Гельмгольца... Позвольте-с.
Новый студент с председателем спорили: о механическом
мировоззрении; или - о чем другом.
После экзаменов он, подписав дипломы, умер.
Сколько он спас от провала пред смертью!
Ему прощалось многое: горячие выкрики, парадоксы,
даже мнения, идущие в разрез с веком; знали: декан -
чудак и добряк; выручит в нужную минуту; сперва
накричит, напустит "формализма":
- Это не от меня зависит.
А потом побежит в канцелярию: под шумок толкать дело
студента.
Знали его "пункты"; и - обходили их.
Главный пункт: агитационная пропаганда основ
"эволюционной" монадологии; тезисы ее вырабатывались в
десятилетиях; с первых лет детства я слышу имена:
Фррнсис Бэкон,
34
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
Рид, Юм, Локк, Уэвель, Гамильтон, Спенсер, Милль, Бэн и
т.д.; эти-то имена и преодолевались, вывариваясь в
аритмологии: в основе монадологии эти имена вместе с
именами Лагранжа, Лейбница, Эйлера, Коши, Абеля казались
китами, поддерживающими вселенную; будучи смолоду пропитан
английским эмпиризмом, косился на линию немецкого
идеализма; с уважением отозвавшись о Канте, всегда
приговаривал:
- Да, а пишет - туманно; писать туманно не значит:
писать глубоко; вот французы и англичане пишут изящно,
легко, просто не потому, что плоски, а потому, что
выносили образ мысли; немцы - не выносили.
Или:
- Троицкий доказал: Кант основательно-таки стащил мысли
у Рида.
Поэтому и ценился Троицкий - не за мысли, а за
проделанную работу: за изучение источников.
Не считая себя спецом-философом, отец изучил
скрупулезно линию английского эмпиризма; и был он
начетчиком в ней:
- Почему не изложите вашей философии в книге? -
спрашивали отца.
- Потому что мне надо написать не книгу, a четыре
книги, а где взять время: ведь я - математик.
Но 4 ненаписанных книги он сжал в тезисы; и перечень
тезисов - его брошюра "Основы эволюционной монадологии";
тезисы развивал он на спорах и с позитивистами, и с
метафизиками: Трубецким, Лопатиным, Гротом; у Cтороженок
он схватывался с Иваном Ивановичем Ивановым, диким
спорщиком, как и отец; не к Стороженке он, собственно,
шел, а к Иванову: с ним накричаться; и приходил
раздовольный: сидел "в большой нежности, - так, ни, с
того, ни с сего; и - улыбался "тишайше": себе и всему, что
ни есть". ("Крещеный Китаец", стр. 21). Грот и Лопатин
ценили его, как философа; но метафизики не удовлетворяли
его.
- Они фактов науки не знают-с!
35
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
Он был истинно одинок, истинно осмеян там именно, где
начиналась в нем оригинальная глубина его; "Глас, пошлый
глас, - вещатель общих дум", по словам Боратынского,
поднимал над его одиночеством пошленькие хихики; люди
кончика языка в нем Сократа не видели; вот как отразился
отец в воспоминаниях И.А. Линниченко (сборник "Живой
Толстой", издание 1928 г., стр. 371 - 372): "Однажды в
приемный день Николая Ильича..., в числе гостей,
пересидевших five o'clock, были: известный математик,
мнивший себя философом, проф. Н.В. Бугаев, какой-то
приезжий англичанин и я... Вскоре... в кабинет вошел Л.Н.
Толстой. Англичанин... даже побледнел от восторга и весь
насторожился, ожидая услышать пророческое слово поэта-
философа... Не успел, однако, Л.Н. занять свое место, как
Н.В. Бугаев бросился к нему и... руками и крикливым
голосом, в пылу спора доходившим до предельных нот
сопрано,... бегая по комнате, спеша... и захлебываясь,
начинает излагать Л.Н. основные тезисы своей философии.
Весь проникнутый философским... задором (с философами ему
всегда приходилось воевать),
Н.В. и тут стал бороться с несуществующим противником.
Л.Н. молча слушал философа... Тем не менее H.В. постоянно
подбегал к нему с криком: "Нет, позвольте, я вам докажу".
Вижу ясно отца в этой сцене; и - вижу: профессоров Н.И.
Стороженко и И.А. Линниченко; оба были в философском
разрезе люди хихика и того "гласа", о котором сказал
Боратынский: "Глас, пошлый глас, - вещатель общих дум"; и
уж, конечно, отец со всей смешнотой выявлений был именно
непонятым Сократом среди таких слушателей (Толстого я,
разумеется, исключаю); я знаю: Толстой именно на иные ноты
монадологии откликался сочувственно, как откликались
сочувственно и Лопатин, и Грот, и Троицкий, не полагавшие,
что отец "мнит" философом себя, ибо он был - философ
воистину: читая этот тон с "кондачка", вспоминаю невольно
отца:
- Они - болтуны-с!
36
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
На болтунов и кричал он, подбегая к Толстому, а не на
Толстого.
- Да, да, - пришел, доказал: все объяснил.
Так однажды резюмировал Н.И. Cтороженко, садясь за обед,
спор; отца, только что бывшего здесь, с кем-то; почтенный
профессор упустил из виду, что неудобно отзываться об отце
при рядом с ним сидящем сыне (уже старшекласснике); сын -
слышал спор; и сын видел: иронизирующий Стороженко весь
спор промолчал и веского своего мнения не высказал
(Стороженко всегда избегал рискованных тем для него);
почему же в спину доверчиво всем доказывавшему отцу эти
шутки? Противопоставил бы свое веское слово; такого - не
было; что мог он противопоставить? Он был позитивист на
кончике языка, знакомый с собственной идеологией разве по
компиляциям: отец изучил идеологию Стороженки в
первоисточниках, в годах; в годах ее, штрих за штрихом,
поправлял: данными точной науки и данными оригинальнейшей
гносеологии; первой у Стороженки не было; вторая была:
Кант по Карееву (?!?)...
Приходилось, молча терпеть ужасный факт: печенегом
ворвался Бугаев, все доказал, объяснил; и - ушел.
И это не смешно для отца, а плачевно... для Стороженки.
А маски с вещателей "общих дум" очень любил срывать мой
отец; но это - черта фамильная; все Бугаевы - спорщики,
срыватели масок: такие "смешные"! Приходят, машут руками;
вот только, - почему-то все молчат: не возражают;
подбегающий и машущий на Толстого Бугаев-старик - одна
картина; а вот как меня характеризует Илья Эренбург:
"Читает... и, читая, руками машет... И порою Белый кажется
великолепным клоуном". Оренбург: "Портреты русских
поэтов".) Из этого моего вида Эренбург делает горько
лестные выводы о моей смешной исключительности; я должен
разочаровать Эренбурга отблагодарив его за то, что смешные
жесты мои им не поданы с "линниченковским" подхихиком; в
том, что видится Эренбургу во мне, как вершинность, смешная
в долинах, - самая эмпирическая, фамильная черта; все
Бугаевы - такие: сын, отец, дяди.
37
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
И я знаю прекрасно свои смешные стороны; знал: их и
отец; и прекрасно видел, как смеялись над ним. Когда этот
смех был добродушен, он сам принимался смеяться; но и злой
хихик чуял он; и - ожесточался; впрочем, был он отходчив;
он часто слышал:
- У Стороженки все основано на позе: скажет и забегает
глазками по сторонам, наблюдая за впечатлением.
Отец обрывал:
- Оставь, знаешь ли: добряк, хохол, хлебосол... У
каждого - свое.
И сидел в большой нежности; и пленительно улыбался на
нас.
2. ОСТРАННИТЕЛЬ БЫТА
Отец - первый мне встретившийся идеологический спутник,
поведший меня по годам: к рубежу двух столетий; поздней
мне связался со сказкою Андерсена; и сказка та -
"Спутник"; в годах представлялось: отец, получив указания
где-то, что делать, "пройдя по векам напрямик, перерезав
большую дорогу, явился звониться: к нам в комнаты - с
очень набитым портфелем, набитым "заветами"; ныне -
невидимо служит и тайно всем нам образует". ("Крещеный
Китаец", стр. 216.) Большая дорога,- история мира: Арбат;
но история, свертывая, чрез Арбатскую площадь, Воздвиженку
и Моховую, начало берет в Заседанье Правления
университета, где было все создано: мир, Арбат, мы и
прочее.
Отец представлялся двуликим: одной стороной бытия
заседает он; и в результате - бытийствует мир; другой
стороною сидит в малой клеточке этого мира, в квартир)(c) у
нас; и его все гоняют из комнаты в комнату: за математику.
Он математикой этой мешает нам жить; и конфузится сам
неприличию жизни такой; кто живет там с друзьями, кто с
родственниками, кто с женой; а отец - с математикой.
Противоречие в осознаванье отца углублялось
действительным противоречием, в нем жившим: меж чувством и
мыслью
38
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
с одной стороны и меж волей; нежнейшие чувства: душа, как
мимоза; нежнее, отзывчивей я не встречал человека; услышит,
что кто-то горюет,- спешит утешать, возвышать:
- Нет жизни, - бывало, печалится тетя.
- Да полноте! - и начинает теперь из него
погрохатывать выливнем слов и - зажигало закаты; выхватывал
он из себя уверения в том, что достоинство - да! - человека
огромно...
- Смотрите бодрее!
"И раскидавшись ладоньями, он собирал... материал
переплаканных слов, превращая его... в бирюзовые ливни, в
перловые ясности...; духом исходит на нас; на паркеты
квартиры, напоминая Сократа пред ядом". ("Крещеный
Китаец". Стр. 208.)
Умел он привзбадривать.
Видом свиреп, а услышит, как кто-нибудь песню поет,
умилится; и сам любил он откровенную песенку:
Стонет сизый голубочек.
Услышит - сияет улыбкой пленительной.
Мысли: он в мыслях взворачивал самое представленье о
связи наук; и порою меня, "декадента", сражал он полетами,
смелостью, дерзостью математических выводов, к жизни
приложенных; выскажет; и вдруг припустится мысль
остраннять в каламбурище. Передавали: за ужином у С. А.
Усова раз при Толстом он пустился в гротески; Толстой
оценил чрезвычайно один из них: за художественность!
"Художеством", знаю я, более заинтересовались бы Брюсов и
Маяковский, чем профессора; "художество" это
преследовалось у нас в доме; кухаркам, извозчикам нес свое
творчество неоцененный "мифолог"; извозчики в чайных
передавали друг другу словечки отца; и известностью у
приарбатских извозчиков очень гордился он.
Стиль каламбуров - Лесков, доведенный до бреда, до...
декадентства; иными из них я воспользовался, как художник,
ввернув их в "Симфонии" и в "Петербург".
Да, но стоило отцу открыть рот, как мать прерывала его:
39
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
- Вы опять за свое?
- Не любо, не слушай, а врать не мешай, - отзывался
он, что-нибудь высказав: с очень довольным, хотя виноватым,
стыдливым, слегка перепуганным даже лицом, себя сдерживая;
не сдержавшись, сорвавши салфетку с себя (каламбуры
слагалися им за обедом), он несся на кухню, где был он
свободен от нашей цензуры; и, бухнув гротеском пред
кухонного плитою, он с хохотом, полуприплясывая и
полуподмаршовывая, мотал: головой сверху вниз; и крахмалами
кракал, к столу возвращаяся, чтобы подвергнуться
действительному обстрелу глаз матери.
Эта потребность к чудовищностям - органический зуд,
выраставший из вечного сопоставления оригинальных и новых
мыслей о мире и жизни с "бытиком", мысли такие
расплющивающим; из среды - куда вырваться? Он в вей, как
узник, до смерти сидел пребеспомощно; сидел со страхом; и
страх атрофировал в нем, революционере сознания, самую
мысль об замене иною средою среды, окружавшей нас; ведь её
представители - сливки Москвы; не к извозчикам же бежать в
чайные?
В том-то и дело, что, может, следовало бы бежать: пусть
хоть в чайную!
Но до этого отец не дошёл: воли к новому быту в нем не
было; отдавался он "бытику" не от любви, а... из страха:
проштрафиться; и - быть наказанным... Марией Ивановной
Лясковской (?!), не говоря уже о нагоняях от мамы.
И он изживал в каламбурах стремленье к "не как
полагается", следуя в быте канонам: с усилием невероятным;
такого усилия быть, "как и все", я ни в ком не встречал;
"всем" легко то давалось; а у отца это "быть, как и все"
интегрировалось с непомерным трудом; с угловатостью,
вызывающей хохот "у всех", он проделывал все бытовые
каноны.
Иные из профессоров, как подметил я, будучи тоже
свободными в мыслях от тех бытовых предрассудков, в
которых мы жили, все силились, как и отец, уравнять себя
среднею линией; и - выпирали: смешными казались; отец был
смешнее их всех,
Кто выравнивал фланг бытовой?
40
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
В первую очередь выравнивала "профессорша"; много я
типов видал; в многих бытах я жил; но такого ужасного,
тусклого, неинтересного быта, какой водворила "профессорша"
восьмидесятых годов, я, бежавший давно от профессорш,- могу
смело сказать: не видывал я второго такого быта: купцы,
офицеры, художники, революционеры, рабочие, крестьяне, попы
жили красочней среднего профессора и средней профессорши;
ни у кого "как у всех" не блюлось с такой твердостью; ни у
кого отступление от "как у всех" не каралось с такой
утонченной жестокостью (я на себе испытал ту жестокость). И
думаю я, что склероз, поражавший всех нас так ужасно, имел
объяснение в том ложном мненье, что "мы" - соль земли;
стало быть: "как у всех" означало для нас - как у Янжулов,
у Стороженок, у Бобышша, у Млодзиевских; возьмите в
отдельности каждого: имя в науке, заслуги, незаурядная
личность; и, стало быть: сумма имен - сумма всех
преимуществ над прочими.
Вовсе не видели: целое - еще не сумма; в сложении
славных имен упускалось из виду, что "славное" славной
личности изливалося в лекции, в книги; и туда именно
улетучивалось; а усталый и вовсе не славный остаток под
формой профессора, выведенного профессоршей из кабинета,
являл собой мягкую глину, лепимую пальцами данной
профессорши по канонам ареопага профессорш; такое лепление
превращало остатки действительной "лепоты" в пренелепое
что-то; остатка: огня, непредвзятости, революционных
стремлений в профессоре, простите за выражение,
выносились... в уборную; и утекали по водосточной трубе от
достойной квартиры к полям орошения.
При таком своеобразном сложении складывались мужи, йе
славные вовсе; говорилося не о Янжуле, выявившем себя в
книгах, а говорилось о "Янжулах"; а "Янжул" - не "Янжулы";
"Янжулы" - значит: пыль янжулова стола, плюс мамаша жены
Янжула, плюс мадам Янжул, плюс я не знаю - кто и что; и -
"минус" все ценное в Янжуле.
В принпипе такого сложения сумма славных имен равнялась
41
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
сумме всего неславного в них, спрессованного,
законсервированного, как канон нерушимый.
Профессор сидел, заключенный в своем кабинете
профессоршей, за него тарахтящей; в гостиной она тарахтела;
он - глупо мычал и потерянно улыбался; наслышался я
лепетаний парок: ужасно оно; но ужасней всего: "парки"
жили, осуществляя отбор самых злых, самых "парочных" парок;
в результате отбора вынашивалася "тиранша", которой
вручалася власть неограниченная и тупая над данным участком
славнейшего "Города Солнца": университет - Город Солнца.
Такою тираншею например, была та, кого я называл в ряде
лет "мамой крестной"; ее наезды к нам в дом были жуткой
ревизией быта; я к ней возвращусь; ее очень боялся отец;
непонятно, что - чтил; моя мать не раз плакала из-за нее;
и порой ненавидела, хотя... чтила; столь разные во всех
проявленьях, родители... одинаково "чтили" Лясковскую; за
что ее чтили? Не спрашивайте: не они ее чтили; а "что-то"
в них чтило ее; то, что чтило, - глухое, непрошибаемое
подсознание, руководимое инстинктами: слепого страха.
Неславная честь - честь моральной нагайки!
Закупоренный в проявлениях жизни средой и квартирою,
собственной мрачной иронией "каламбурищ" горел мой отец,
каламбурами уничтожая нещадно все то, перед чем он
склонялся в своем бренном облике: да, каламбуры -
отдушина; и в нее улетали пары живомыслия.
Вот почему мне бывало от них страшновато; они - не
развеивали перепугов моих, о которых скажу: перепугов от
быта, от старой профессорши, от математиков, от крестной
"мамы"; скорей каламбуры увенчивали перепуг, доводя его до
бредовых фантастических форм уже.
Мое, так сказать, вылезанье в действительность из мифа
сказок, - испуганное вылезание в нечто, что, падая
прессом, расплющивало: до конца; предо мною стоял ряд
канонов; и - страшный канон: "как у всех"! Он - давил не
меня одного; он давил мою мать; в нем отец ходил, как
деформированный. В эти
42
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
именно первые миги сознания сколькие "Бореньки", сколькие
"Танечки" из возраставших вокруг меня делалися рабами на
всю свою жизнь. С не проявленным ясно, но видным теперь
мне инстинктом здоровья, утаивать стал я в канонах какую-
то точку свободы к себе, ощущая в подполье ее; у кого этой
не было точки, тот делался раб еще до представленья о том,
что есть рабство; а тот, кто имел ее, мучился, чувствуя,
что конспиратор он; конспирация, правость бунта, - все это
потом приходило в сознанье, как мысль; но иметь в себе
бунт, конспирацию и жить в подполье, не зная, что действия
жизни такой означают благое спасение в будущем, - просто
ужасно: живешь, ощущая преступность свою, без вины
виноватость, как выросший рог: его надо утаивать.
Лоб мой таким вышел рогом: большим, неприличным; и мама
бранила за лоб, закрывала кудрями; а я, совершивший ужасное
преступление "лба", - содрогался, таился; и чтил это все,
что у нас весьма чтилось; но чувствовал, что почитание мое
мне постыло: постылое "чтение"! Я поступал, как отец: он
ведь чтил "как у всех", разрушая гротесками "чтенье" свое;
но так "чтить" не мог долго я; я перестал "чтить", но делал
вид: почитаю! Это насилье рождало во мне противодействие
страшной силы; и я стал взрывать (уже гимназистом); но
раньше еще я попробовал подражать отцу; стал я пробовать
пороть "дичь", Как и он; испугался он:
- Что это, Боренька, право: какое затеял!
И я - прикусил язычек; но запомнил: он - сам порол
"дичь"; его "дичь" каламбуров над бытом блестяща бывала;
но рано уже ощутил я всю едкость трагедии в ней; и
позднее, когда декадентом я стал, то заимствовал у отца
"каламбур", но остраннил его в бреды "Симфонии";
остранненье такое есть передача моих восприятий - его
каламбуров.
"Передавали поморы, что... подплывал кит к... берегу
Мурмана... Спросил... любопытный кит глухого... помора:
"Как здоровье Рюрика?" И на недоумение глухого старика
добавил: "Лет с тысячу тому назад я подплывал к этому
берегу; у вас
43
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
царствовал Рюрик в ту пору". ("Симфония".) Это - каламбур
отца. И тут же рядом: "Тогда же чины... полиции поймали...
протыкателя старух... Он... ораторствовал: "Нас много..."
("Симфония".) Это уже навеянное стилем каламбуров отца; а
вот - итог каламбуров в моем восприятии: "Все спали... Иные
спали, безобразно скорчившись. Иные - разинув рты. Иные
храпели. Иные казались мертвыми. Все спали. В палате для
душевнобольных спали на одинаковых правах со здоровыми".
("Симфония".)
Сумма каламбуров плюс сумма почитании того, над чем
строились каламбуры,- давно, еще в ребенке, подытожилась
фразою о сумасшедших, спящих на одинаковых правах со
здоровыми; безумие и здоровью в среднем нашего быта мне
подытожились: в мертвый сон.
Отец, прочитавший "Симфонию", не мог не "ужаснуться ею";
но он "ужас" свой от меня скрыл; и вернул книгу с деланно-
бодрым:
- Прочел-с!
Л. Л. Кобылинский (Эллис), в те дни часто у нас бывавший
и много говоривший с отцом вдвоем, уже потом, по смерти
отца, мне рассказывал, как отец, задыхаясь, взял его за
ворот пиджака и не без лукавства выкрикнул:
- А у Бореньки в книге есть эдакая наблюдательность!
Если в этом сквозь недоумение признании в нем
шевельнулось нечто от прочтения моей "Симфонии", так это
притяжение к каламбурному стилю иных из ее сцен; а этот
стиль за вычетом разных литературных влияний - отцовский
стиль; он как будто до Виктора Шкловского открыл принцип
сознательного остраннения; и остраннял, остраннял,
остраннял всю жизнь: жизнь вкруг себя, - жизнь, в которую
был заключен он.
Критики действительности под формою каламбура в отце не
видели: мать, профессора, да и сам он; он возбуждал порой
хохот у матери, профессоров, меня, у себя самого.
И отсюда легенда о нем, что - чудак.
Но все математики - чудаки.
И вставал "математик" передо мной в первых днях
детства,
44
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
3. МАТЕМАТИКИ
Математики - наибольшие революционеры в сфере абстракций
- оказывались наиплотнейшими бытовиками, что на моем языке
значило: скучными людьми, лишенными воображенья в
практической жизни; быт жизни берется математиком вполне
"на прокат", как мебель чорт знает каковского стиля: было
бы на чем сидеть; "рюс" так "рюс", "ампир" так "ампир";
кто, в самом деле, глядит на мебель? Ее ощущают той частью
тела, которая противопоставлена голове; быт, как ощущение
задних частей туловища, противопоставленных интегралу, -
вот, вероятно, почему математик так скучен в быту; ну кто
бывает весел - в отхожем месте?
Кое-как расставив тяжелые мебели быта, математики
усаживаются на них вычислять безо всякого представления,
что мебель проветряема и выколачиваема.
Непроветренный быт!
Если у Анны Ивановны собираются по средам, а у Ивана
Ивановича по четвергам, у Матвея Ионыча соберутся, будьте
уверены, - в пятницу: пятница же - следующий по порядку
день; и - как же иначе? Если у Анны Ивановны подают
бутерброды с сыром, а у Ивана Ивановича с ветчиной, у
Матвея Ионыча одна вторая бутербродов будет с сыром; одна
вторая - с ветчиной; и - никогда с икрой: на каком
основании?
И так - тридцать лет: безо всякого изменения.
Умопомрачительные скачки мысли над иррациональным "и"; а
точка над "и", или жизнь, ставится в виде... бутерброда с
сыром; вне математики разговоры - присыпочка тощая к
бутерброду сухому; если у Анны Ивановны обсуждают мебель
квартиры Ивана Иваныча, а у Иван Иваныча обсуждают мебель
квартиры Анны Ивановны, то - дело ясное: тема журфиксной
беседы Матвея Ионыча, математика, определилась на тридцать
лет; - с тем отличием, что будет выбрано изо всех
разговоров общейшее, неизменяемое и преснейшее; математики
- обобщители; и будьте уверены, что лозунг квартиры
профессорской, "как у других", - доведен ими до
совершенства.
45
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
Разумеется, - всюду есть исключения: есть математики,
выявляющие и в быте таланты (хотя б - мой отец).
Бедные математики! Описанная мною черта - от
растерянности, от рассеянности и перевлеченности вниманья;
безумью полетов отдана голова: от чела до носа; а жизни
отдано все то в теле, что противопоставлено голове;
математик в науке человек с наибольшею солью, человек "с
перцем"; математик в быте - "песок".
Математики, став твердой ногой в твердом быте и голову
твердо воздевши в мечту, ей более всего веря, но перепутав
ориентацию головы и ноги, думают, что подножный быт, их
держащий,- интегральное выражение всех революций сознанья,
которым они так беспомощно отданы; дело в том, что
фантазия математической мысли давно превзошла все фантазии
и что в фантазии этой они твердо зажили, как мы в быту;
так что быт с его лозунгами "как у всех" для них выглядит,
может быть, наиболее недостижимой и этим влекущей
фантазией; действительность икосаэдра, разращение в ней
уравненья, - и Анна Ивановна, ставящая бутербродик на
стол, - это ли не предел фантазии? И, увидавши сухой
бутербродик, пред ним математик усаживается, чтоб
переживать панораму его, как вполне исключительное
обстоятельство; переживает, молчит; и для вида
отделывается словами о том, что погода прекрасна.
Нам скучно с ним.
О, сколько я видел их, - всяких: и чистых, и
прикладных! И сперва показались мне жуткими их фигуры,
особенно при воспоминании о том, что мама боится: прийдет
математик похитить меня от нее, чтобы сделать "вторым
математиком".
Смутно в детстве мелькнули - серые, брадатые, сонные,
немногословные (на меня - нуль внимания), - академики Сонин
и Имшенецкий, Бредихин и Цингер; огромное что-то, глухое,
седое, войдет и воссядет; и мама боится, и я; отец - эдак и
так (человек был живой); математик - не двигается; еле губы
шевелятся; только блистают очки; Ймшенецкий - бойчее; а вот
Дубяго, казанский профессор, декан, тот внушал просто ужас;
46
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
и почему-то казалось, что есть математик, который его
превосходит огромным умением создавать угнетающую
атмосферу: Долбня! Я Дубяго боялся, но думал: еще то -
цветочки; а вот как приедет Долбня - всем конец!
Но Долбня не приехал.
Ходил некогда Павел Алексеич Некрасов, оставленный при
университете отцом; в молодости он видом был - вылитый поэт
Некрасов, - но с очень болезненным видом: худой, с грудью
впалою; к дням профессуры он не поздоровел, но престранно
разбрюзг; стал одутловатый и желтый, напоминал какую-то
помесь китайца с хунхузом; отец про него говорил, что он
некогда был недурным математиком; он поздней пошел в гору,
как ректор; в эту пору отец стал помалкивать; и "Павел
Алексеевич" уже не произносилось им ласково.
Другие, бывало:
- А Павел Александрович.
Отец встанет, пройдет в кабинет.
В детстве помню доцентом его, туберкулезным и кашляющим,
и скорбящим на что-то, и красным весьма; меня брали на
елку к Некрасовым; нас посещали Некрасовы; но сколько ни
вслушивался, - ни одной яркой мысли, ни взлетного слова:
тугое, крутое, весьма хрипловатое и весьма грубоватое
слово его.
Вот - профессор Андреев, опять-таки, ученик отца:
говорили: "Весьма остроумен". Но видел я нос - очень
красный и Зубы гнилые, показываемые из длинной и рыжей
весьма бороды; что он криво смеется, - заметил:; a что
говорит остроумно, - припоминаю: нет, словно не говорил
ничего... Вот во всем соглашающийся, грубо ласковый
профессор Алексеев; и - опять-таки: в (сознании моем - т
а б у л а р а з а; а вот Селиванов; придет, - никакого
прока; резинку жевать интересней, - чем слушать жев его
рта; вот Егоров (профессор впоследствии), это - стерлядка:
нос стерлядью; чернобороденьким помню его; глаза острые,
умные; и - любит музыку; видно, что умный, а как к нам
придет, сядет перед отцом и уставится носом стерляжьим;
47
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
нет, видно такой ритуал, что когда математик приходит к
отцу, то - приходит молчать.
В детстве сложилось во мне убеждение: в Киеве есть
математик-буян, Ермаков; борода Черномора; и - все-то
воюет, кричит; я все ждал: он приедет кричать; не приехал-
таки!
А в Москве математики тихие...
Многих я видел в дни детства; и самыми незабавными,
незацепившимися за память, стоят математики; сколькие
перебывали у нас, а... а... а... хоть шаром покати; с очень
многими профессорами впоследствии спорить хотелось; они -
оцарапывали хотя бы сознание; а математики - не оцарапали
ничем; и - ничем не погладили.
Забавней других мне казался профессор Бобынин.
Поздней я ценил обстоятельные, интересно написанные,
умные его статьи по истории математики; человек с пером, с
даром, с талантом, а... а... как он выглядел?
Стыдно признаться, что в девяностых годах вместе с
мамою, тетею, гувернанткою, прислугой считал я Бобынина за
идиота какого-то.
- В присутствии Бобынина засыпают мухи - всегда
говорила мама; и я был уверен, что это есть факт.
- Да-с, скучнейший человек в Москве - признавался
стыдливо отец; и всегда прибавлял:
- Он - почтеннейший труд написал.
В продолжение лет пятнадцати слышал я:
- Пришел Бобынин: что делать?
Или:
- Сидит Бобынин: просидит часов десять.
Когда приходил на журфикс, не пугал; такой кроткий,
седой, улыбающийся, он тишайше сидел себе в кресле; сложив
на животе руки и палец вращая вкруг пальца, кивал:,
улыбался, порою некстати совсем; и потом начинал клевать
носом: придремывать; и, пробуждаясь от смеха, от громкого
голоса, он с перепугу, что сон его видели, очень усиленно
в такт разговора ки-
48
|
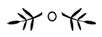
|
|
|
 |

