 |
|
|
|
 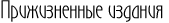
<<< Предыдущий блок :: Следующий блок >>>
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
вал; и все знали - Бобынин; и - стало быть: так полагается,
пусть его.
Но он имел порой смелость зайти невзначай; хоть не часто
являлся, а все же - являлся; не было никакой возможности
извлечь слова из уст этого седобородого и препочтенного
мужа; глаза голубели кротчайше, улыбка добрейшая, почти
просительная, освещала его лицо: голова начинала кивать;
палец бегал вкруг пальца; слова не являлись из уст;
садился,- наступало тягостное молчанье, во время которого
начинал он придремывать; прийдет до завтрака - знали:
отзавтракает, отобедает и, чего доброго, пересидит чай
вечерний.
- Скучен, как Бобынин, - техническое выраженье у нас; и
отец, защищавший всегда математиков, лишь похохатывал; и
разводил руками; и даже: придумал он способы удаленья
Бобынина; и применял их лет этак двадцать; отец, такой
гостеприимный хозяин, по отношению лишь к одному Бобынину
применял этот способ с такой незатейливой простотой, с
какой пробку откупоривают: щелк - где пробка!?
Сидит Бобынин: раз-раз - нет Бобынина. С лукавым
прикряхтом и с потиранием рук начинал он похоживать, точно
кот, вкруг Бобынина.
- Так-с... Очень рад-с...
И лукаво он втягивал воздух губами:
- Всс... ввсс...
И уже вылетал он в переднюю:
- Почистите сюртучок-с!
Нарочно громко, чтоб слышал Бобынин, что он собирается
из дому на заседанье; влетал; и часы вынимал, и держал их
нарочно в руке пред уже засыпавшим Бобыниным; давши поспать
ему так с полчаса (для того и часы вынимались, - отец любил
делать все точно при помощи мер и весов), - мой отец
восклицал:
- Ну-с, мне пора-с, - по делу!
И вовсе не давши опомниться Бобынину, способному
остаться в кресле без папы, Бобынина под руку взяв,
вынимал его
49
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
ловко из кресла; подшаркивая и подпрыгивая, точно кошка с
попавшейся мышкой, с Бобыниным несся в переднюю он; и
старик добродушно кивал головою и палец вкруг пальца
вращал. Вылетали на лестницу вместе,- стремглав; отец
скатывался горошком по лестнице; и, тяжко запыхавшись,
падал Бобынин за ним со ступеней; вывлекши Бобынина, мой
отец безапелляционно показывал на Арбат:
- Ну-с, вам сюда!
И потом указывал на Денежный переулок:
- А мне сюда-с!
И, стремительно бросив Бобынина, он влетал к нам на
двор, через Денежный; и появлялся из черного хода в
столовой:
- Ну вот-с!
- Мертвец - раздавалась по адресу Бобынина
безапелляционная резолюция матери.
- Шурик, оставь: он ведь умница; человек прекрасный;
почтенный ученый!
- А зачем же он ходит к нам в гости дремать?
- Он, знаешь ли, - устанет и ищет рассеянья; он,
Шурик, не какой-нибудь светский шаркун! - и шарк вычислять:
в кабинетик.
Я ж бывал в совершенном восторге от техники извлеченья
Бобынина; мои отец оперировал с ним, как лакей
ресторанный, откупоривающий бутылку, - с пробкой.
Решительно, но и гуманно: сперва даст поспать полчаса;
и следит по часам: двадцать пять минут прошло, - нельзя
трогать Бобынина; тридцать прошло - нет Бобынина!
Бедный Бобынин, не раз извлеченный, являлся, хотя и не
часто: опять извлекаться; большое чело, седина, безобидная
кротость больших голубых водянистых глаз, детская очень
улыбка - все это внушало мне жалость; как будто бы жест
молчаливый явленья его говорил:
- Я... я... я... ничего: я - на все согласен; я - сяду
вот тут: буду слушать; но уж не спрашивайте ни о чем меня;
и - не гоните !
50
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
Умер отец; не являлся Бобынин; наткнувшись на статью о
египетской математике, после уж я подумал:
- И это Бобынин писал?
- Тот Бобынин?
- Да он... он... он... умница?
Вот что делал наш быт с математиками.
Совсем иным в днях детства и отрочества отпечатлелся
мне другой математик Болеслав Корнелиевич Млодзиевский;
почему-то я вижу его в паре с Умовым, - с Умовым, о
котором я буду говорить, как о своем профессоре; весьма
талантливый человек, и, как Умов, умница, но с умом, иначе
поставленным, Болеслав Корнелиевич занимал меня; его
помню: доцентом; потом экстраординарным и ординарным
профессором.
Прекрасный лектор, преподаватель ряда высших учебных
заведений, не чуждый весьма философии, даже способный
заглядываться в сферу искусства, он кое-что в нем понимал:
более от ума, чем от чувства; и он - хорохорился; Умов
садился в кресло опочивать в созерцании физических
космосов; Млодзиевский, - вскипая из кресла, соскакивал с
кресла; и - начинал вертеться волчком; Умов торжественно
выступал в буднях быта; а Млодзиевский, вертяся, задевался
о косности, издавая особый "жуж": "жуж'" волчка; был -
вертуном, непоседой.
Его огромная голова с огромным лбом, продолжавшимся в
лысину, увеличивалась дыбами, торчавшими перпендикулярно к
плоскости черепа; маленькая бородка дрожала; золотые очки
сверкали; увидав эту огромную голову, трудно было б
предположить, что она сидит на худом и крохотном тельце,
соединяясь с ним тонкой шеею; и голова - заваливалась
назад; и, завалившись, вертелась оглядываясь беспокойно, с
лихорадочно горящими глазками на бледненьком личике;
иногда Млодзиевский, вдруг нагнув низко лоб, его
взмарщивал, производя впечатление бычка, готового к бою; а
нервно-бесцветные губки дрожали сбиженно; верхняя часть
лица метала и громы, и молнии; нижняя - плакала. Он не
ходил, а - носился, вертясь и припрыгивая, гордо выпятив
грудку, отбросивши голову.
51
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
Если Умов входил, как на цыпочках, в быт, чтоб его не
расплющить (в пространствах космических вовсе иные
масштабы), то в быт Млодзиевекий влетал со всех нот; и
жужжал:, и толкался о косности; можно было бы думать, что
лес революцию в быт; все ж сводилось - к поправочке, к
маленькой: к перестановке - малюсенького предметца; и
маленький, но удаленький профессорок колотился беспроко о
прочные кресла; и - ничего не расстраивал: много шуму из
ничего; когда Умов из кресла гласил свое "как поживаете", -
вздрагивали: не несется ль комета на нас?
Млодзиевский волчком тарахтел, сыпал двойками, проявлял
придирчивость на знаменах; и даже казалося, что он
колеблет устои... пепельницы на столе (не устои стола);
шум - на заседаниях, двойки - студентам; и - вся
революция.
Он - что-то видел сквозь быт; это стало мне ясно
позднее; и вздрагивал от... драмы Ибсена; встретясь с ним
на "Когда мы, мертвые, пробуждаемся", я не узнал его: он
не жужжал, а бледнел; и выпячивал очень свою задрожавшую
губку? готовый расплакаться:
- А? - он воскликнул, увидевши мать.
- Вам нравится?
- Четвертый раз вижу.
Ибсен его укладывал в лоск; я, хотя студент, но уже
старинный "ибсенист" К тому времени, не переживал,
вероятно, и одной трети волнения Млодзиевского. Казалося,
что пред виденной драмой он сотрясался, как годовалый
младенец, которому не полезно столь мощное впечатление,
которого надо скорей, снявши с кресла, запеленать, отвести
домой, уложить в постельку, чтоб он, отоспавшись, к утру
бы мог возвратиться к профессорским функциям: двойками
сыпать, жужжать.
Умов - тот мог бы по-ибсеновски, взять палку; и пойти
на вершину, как Боркман, как Рубек, как Брандт;
Млодзиевскому же виды на горы весьма были вредны, хотя он
устраивал революцию пепельниц на столе у нас; надо его
было порой усажи-
52
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
лать в твердость профессорских кресел, в которых-таки он
уселся до просидения ям, потому что и в них тарахтел; но
тарахты его революций не делали.
Что ж, - превосходный научный работник, прекраснейший
лектор, весьма образованный!
Огромная, преднадменно закинутая голова, недовольная
всем; и - весьма миниатюрное тельце: голова - перерастала
быт; тельце- не дорастало; и большой головой, головою одной
прожужжал он по жизни из кресла профессорского; ножки - не
достигали до пола; едва на него он вскарабкался.
Что он карабкался, мне стало ясно из нескольких дней,
проведенных в дороге с ним; мы, едучи в Париж, встретились
с Млодзиевским на вокзале, в Москве; он ехал в Берлин; и мы
прожили в одной гостинице, рядом,- в Берлине; жена его -
красная очень, грудастая очень, губастая очень; такой же
сынок; Млодзиевский в вагоне сидел, как ребенок; и, глядя
на груди профессорши, можно бы было дойти и до мысли такой:
вот кто мог бы грудями его откормить! Всю дорогу вертелся
он, схватываясь за карманы и поднимая волну беспокойств за
волной; и жужжал, и стенал: где билеты, не сходим ли с
рельс, паспорта ли в исправности; в Берлине же те перепыхи
увеличились и осложнилися гонором и беспокойством; из
трепыхов семейно-вагонного быта стали они перепыхами себя
не унизить во мненье берлинских коллег; едва вынули его из
вагона, как из лукошка цыпленка, как он, оперяся, стал
бегать по улицам с пренадменно закинутой головою громадной
своей, наслаждаясь рассказами нам и семье, как; его
принимали и как называли его не "хер доктором", как при
недавнем наезде, а "хер профессором", мне стало ясно:
действительно стоило многих усилий ему оказаться в том
кресле, с которого он под влиянием Ибсена мог же упасть; и
- разбиться.
Так юрк, фырк и жуж Млодзиевского, умницы, на косность
быта вокруг имели значимость лишь при условье солидной
подставки, - того же все быта; от жизненных встреч и
внимательного изученья жестов профессора мне отложился он
мыслью о
53
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
том, что и большие головы при малых телах не могли
сдвинуть косностей.
Не большие мысли тут нужны были: большие дела!
Другой образ встает, подаваемый памятью с математиками;
не математик, а физик, окончивший математический факультет
с математической выправкою, называющий себя учеником отца,
хотя был по возрасту близким отцу - Николай Алексеевич
Умов; мне он особенно удивителен сочетанием блеска, ума,
прекраснейших душевных качеств; и - скуки; такова реакция
Умова на быт, как на лакмусовую бумажку; сунь одних людей
в этот быт, и человек окрасится в красный цвет холерически
развиваемых интересов к быту, затрепыхается в нем, как
воробей в пыли (тем хуже для него!), являя интересное,
нескучное зрелище, но... неприятное зрелище; другой
человек, сунь его в этот быт, окрасится интенсивно синею
скукою; интересный в статьях Бобынин реагировал на быт
потрясающей скукою, развиваемой им; Млодзиевский -
развивал перепыхи; Бобынин мне симпатичнее.
Умов был тоже скучен, при разгляде издали, а таким
разглядом были мне его посещения нас, разговоры его с моей
матерью и т. д.; по существу он - живая умница,
интереснейший человек, глубокий ученый, философ, чуткий к
красоте, общественный деятель; как то: он волновался
проблемами демократизации знаний; читал физику и медикам, и
агрономам, живо действовал в комиссии по реформе средней
школы в 1898 году; не ограничиваясь публичными речами,
прекрасными по форме, глубокими по содержанию, он печатал
статьи в журналах и газетах, организовывал и двигал
"Общество содействия опытных наук" имени Леденцова; болел
студенческими волнениями; в эпоху Кассо он демонстративно
ушел из Университета; друг и постоянный собеседник
Мечникова (в бытность последнего в Одессе) и Сеченова,-
разумеется, он не был "скучен"; он казался таким мне в
условиях быта, где ему предлагалось не блистать афоризмами,
а говорить так, как "у н а с" говорят; пресловутое "у нас"
деформировало мне мои детские предста-
54
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
вления о впоследствии столь любимом профессоре. Но даже в
скуке в нем было нечто монументальное; непросто скуку он
выявлял, а саму, так сказать, энтропию, мировое рассеяние
энергии.
Но эта скука получала и об'яснение, и раскрытие, когда
Николай Алексеевич всходил на кафедру: сверкать умом,
жизнью, блеском, срывать голубой покров неба и показывать
коперниканскую пустоту в величавых жестах и в величавых
афоризмах, которые он не выговаривал, а напевно изрекал,
простерши руки и ставя перед нами то мысль Томсона, то
мысль Максвелла, то свою собственную: "На часах вселенной
ударит полночь..." Пауза: "Тогда начнется - час первый..."
Или: "Мы - сыны светозарного эфира"... или: "Ньютоново
представление силы описало магический круг вокруг
атома..." Он любил пышность не фразы, а углубленной мысли,
к которой долго подбирал образ... И образы его были
крылаты; он ширял на них; и ставились они перед сознанием
нашим всегда неожиданно, при демонстрации очень помпезно
обставленного опыта. Он любил помпу в хорошем смысле; и
поражал наше студенческое воображение(1).
Никогда не забуду, как однажды по взмаху его руки упали
все занавески в физической аудитории: мы - остались во
мраке; вспыхнул луч проекционного фонаря, с потолка
спустилась веревка с гирею, которую раскачали тут же; и мы
внятно тогда увидели на экране появление тени и отлетание
тени; а мрак пропел голосом Умова: "Мы присутствуем при
вращении земли вокруг оси".
А как он готовил нас к событию обнародования трех
принципов Ньютона! И, подготовив, вывесил гигантский плакат
с аршинными буквами: "Principia, sive leges motus"
(Принципы, или законы движения); войдя, мы ахнули; а ои,
подхвативши наш "ах", с великолепною простотою, но образно,
вскрыл нам ньютонову мысль.
Он вводил в суть вопроса, как жрец, сперва протомив
под-
(1) Эта любовь к эстетике опыта поучает освещение в эстетическом
восприятии самой физической вселенной, как арфы, Н. А. (См. Очерк,
посвященный Н. А. Умову профессором А. И. Бачинским).
55
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
готовкою; извивал занавесь, и мы видели не историю
становленья вопроса, а некую драму-мистерию; так, пленив
нас вопросом, он углублялся уже в детализацию и раскрытие
чисто математических формул.
Я потому останавливаюсь на Умове, как лекторе, что,
пожалуй, из всех профессоров он был самый блестящий, по
умению сочетать популярность с научной глубиною,
"введение" с детализацией: редкая способность!
И через двадцать лет, вспоминая его, я отразил Николая
Алексеевича в стихах:
И было: много, много дум,
И метафизики, и шумов...
И строгой физикой мой ум
Переполнял профессор Умов.
Над мглой космической он пел,
Развив власы и выгнув выю,
Что парадоксами Максвелл
Уничтожает энтропию, -
Что взрывы, полные игры,
Таят томсоновые вихри
И что огромные миры
В атомных силах не утихли...
Статьи Умова, касающиеся вопросов общей физики, не
уступают классическим, цитируемым речам мировых ученых,-
Томсона, Лоджа, Пуанкарэ. Умов в лучшем смысле был не
только философ, но и бард физики; он заставил и приучил
меня на всю жизнь с глубоким трепетом прислушиваться к
развитию физической мысли; и еще недавно, в двадцать
седьмом году, возвратясь к некоторым проблемам атомной
механики, читая Иоффе, Френкеля, Михельсона, Томсона и
Резерфорда, я благодарил Умова за ту подготовку, которую
он нам некогда дал. Прошло двадцать семь лет; но, едва
коснувшись физики из совсем других горизонтов, я нашел в
себе все то, что им было выгравировано в моем мозгу; он
дал возможность почувствовать самый ритм кривой истории
физики.
Н. А. Умов был новатором; в его голове бродили научные
56
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
идеи огромной важности; он первый сформулировал идею о
движении энергии, которая укоренилась в науке, подтвердясь
в специальных работах.
Сперва он вскрывает реальный базис понятия
"потенциальная энергия", как кинетической же, т. е.
реальной, но конкретно не вскрытой в данной системе сил;
теоретическая замкнутость системы становится фактически не
замкнутой, ибо она Замкнута в средах, еще не ощупанных
реально. Позднее он меняет формулировку своего принципа,
формулирует понятие о плотности энергии и т. д.; проводит
он свою мысль в ряде конкретных работ (дает ряд
дифференциальных сравнений, конкретизирующих его положение)
- вплоть до теории упругости, его теоремы становятся
известны за границей; "закон Умова" входит в историю
физики, в сфере электромагнитизма его теории подтверждаются
позднее английскими физиками, к корпорации которых он
принадлежит, как "доктор" Глазговского университета; его
работы рекомендует вниманию гениальный Томсон (Кельвин);
его раннюю работу о стационарном течении электричества
использовал Кирхгоф в формах, нарушающих добрые нравы науки
(т.-е. почти сплагиировал)(1).
Убежденный картезианец, он однако менее всего страдал
узостями "механизма", подобно многим картезианцам своего
времени, соединяя четкость методологической мысли с
высокими и глубокими полетами.
Умов был вдохновителем и интерпретатором высот научной
мысли.
(1)Заимствую эти данные из "Очерка жизни и трудов Ник. Ал. Умова,
написанного проф. А. И. Бачинским, внесшим корректив в мою летучую
характеристику научной деятельности профессора и указавшим мне на роль
Н. А., как творца научных идей, за что я приношу благодарность проф.
Бачинскому; будучи знаком с Умовым-лектором, педагогом и автором
блестящих статей, я, увы, был неосведомлен о значении его чисто
научных работ; и у меня слетела в первом издании "На рубеже"
неосторожная фраза об Умове-ученом: "Сам он не был открывателем новых
путей". Оказывается, он-то им и был. Спешу исправить в этом издании
погрешность первого издания.
57
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
Высокий, полный, седой, с огромным челом, с
развевающимися "саваофовыми" власами, с прекрасной седой
бородой и с мечтательными голубыми глазами, воздетыми г о
р е, с плавно дирижирующей каким-то кием рукой,- кием или
жезлом, которым он показывал то на доску, то на машины,
приводимые в движение тоже в свое время знаменитым
ассистентом Усагиным, он - пел, бывало; и - некое "да
будет свет" слетало с его уст.
Лекции Умова по механике напоминали мне космогонию; ход
физической мысли делался воочию зримым; формулы
вылеплялись и выгранивались, как почти произведения
искусства; кинетическая теория газов была им, так сказать,
соткана перед нами из формул, как тонкая шаль, которой он
попытался окутать и мир жидких тел, и мир твердых, как
ступени (c)сложения тех же простейших газовых законов.
Огромная область физики была им высечена перед нами, как
художественное произведение, единообразное по стилю; мы
почти видели, как из хаоса молекулярных биений сваивалась
предметность обставшей видимости.
Таков был он на лекциях: крупная умница, свободная от
ряда предрассудков; он был смел предельно; это явствует из
того, что мой реферат ему "О задачах и методах физики", в:
котором я позволил себе ряд смелейших допущений, был им
отмечен именно из-за смелости; за минимальное отступление
от канонов в статье моей "Формы искусства" покойный Сергей
Трубецкой отказался от председательствования в обществе,
где статья должна была быть прочитанной; наоборот, -
прочитанная моя статья в академическом семинарии у Умова,
и беспомощная, и дерзкая, не испугала Умова.
Уже около 1912 года, встретив меня на улице, он меня
остановил; и, между прочим, напомнил:
- А помните вашу статью на моем семинарии: я ее
сохранил...
Так же он был широк на экзамене; и - хотя требователен
по отношению к минимуму знаний, им нам выдвигаемому, как
обязательному; за незнание типичных формул он ставил
двойки безжалостно; и - никогда не придирался; еще он
требовал ясного
58
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
понимания метода; и очень любил теоретическое расширение
вопроса; когда я позволил себе начать доставшийся мне у
него на экзамене билет ("Механическая теория тепла") с
методологического расширения и начал говорить о
механическом мировоззрении вообще, да еще увлекся, он,
провоцировав к философии, оборвал меня, едва дело дошло до
опытов Джоуля, поставил "5", другой на его месте оборвал
бы не на Джоуле, а гораздо раньше словами: "Ближе к делу".
А он влек меня прочь "от дела", билета, - к сути, к
основам теории тепла.
Мы и встретились прекрасно, и расстались прекрасно.
Да, а в быту он был... необыкновенно скучен, производя
впечатление запутавшегося; от испуга ли, от снисхождения;
ли к мещанству, от доброты ли, он силился облечься в быт,
как в новые брюки, боясь досадить пылинку невнимательности
на то, к чему он и не мог быть внимательным; он расхаживал
среди бытовых фигур, как слон средь жучков, боясь ступить:
слон был очень добрый; поэтому: он и ступал особенно, и
примолкал особенно, склоняя на бок большую, прекрасную
голову; и вдруг возглашал:
- Какая прекрасная погода!
А в тоне можно было прочесть:
- Бьют часы вселенной первым часом!
И все ощущали гиератику интонации; и - невольно
молчали; и - он молчал, явно сконфуженный.
С той же торжественностью он выступал на прогулках с
палкой и шапкой в руке, производя не смешное, а странное
впечатление: так выступали герольды, возвещавшие коронацию
Николая Второго, с перьями на шляпах, с жезлами в руках; и
надо было его облечь в костюм средневекового доктора.
Таким он являлся к нам в дни именин отца, 6-го декабря;
и своему появлению предпосылал огромный кремовый торт;
этот торт появлялся ежегодно.
Умов появился в Москве уже на моей памяти (из Одессы); и
называл себя учеником отца (отец был еще молодым
магистрантом, когда Умов, четверокурсник, учился у него).
59
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
Торжественным герольдом явился мне в детстве Умов; что
возглашал, понять я не мог; но и "профессоршам" не были
ясны жесты Умова: могло ведь казаться: он возглашает
святость и незыблемость общих мест быта: незыблемость
разговора о прекрасной погоде и незыблемость торта, им
посылаемого; являлся он к нам, как будто произошло
величайшее космическое событие; садился и умолкал; и после
провозглашал:
- Погода прекрасна.
В день именин отца он казался церемониймейстером
поздравлений; и так же поднес отцу адрес в 1902 году.
У него была милая, некрасивая супруга; и еще более милая
дочка Оленька.
В бытность нашу с матерью в Париже в 1896 году мы
встретили Умова на Boulevar St. Michel; он так торжественно
снял шляпу перед нами, что и мне и матери показалось:
отныне - кончились невзгоды нашего заграничного путешествия
(нам не везло); и когда Умов тоном, будто провозглашающим
по-дьяконски "господу помолимся", сказал " не поехать ли
нам в Швейцарию" (мы накануне решили ехать в Нормандию), то
наша участь решилась; и мы с семейством Умовых проследовали
в Берн;, а оттуда в неинтересный Тун, показавшийся мне
интересным после того, как Умов, указывая на самое
обыкновенное дерево, провозгласил:
- Какое прекрасное дерево: у нас нет ничего подобного!
Я был сражен.
Умов дружил с профессором Эриеманом, жившим в Гюнтене и
к нам приезжавшим; однажды все поехали к Эрисманам, кроме
меня и Умова; меня, мальчика, сдали Умову на попечение; не
знаю, кто кого испугался, оставшись вдвоем на весь день: я
ли Умова, Умов ли меня: мы долго молчали, остолбенело1
глядя друг на друга; наконец Умов, крутя сигару, показал
рукой на бутылку вина, склонив седины почтительно предо
мною; и тоном огромного уважения ко мне произнес:
- Не хотите ли стакан вина?
Вина не давали мне; и я отказался, но - пережил я нечто
60
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
праздничное; лед молчания был сломан; и он повел меня
гулять, указывая на невиданные деревья и на несуществующие
красоты Туна.
- Посмотрите, какая красота!
Когда вернулась мать, мне было жалко расставаться с Умо-
вым и входить в комнаты из необ'ятного космоса. Не знавшие
же источника торжественности Умова (перманентное созерцание
парадоксов Максвелла) относили ее к увенчанию лаврами...
пустого и общего места; и он ходил среди нас в
"укрепителях" пустого устоя, он - революционер мысли, но -
немой в быту; он освещал тысячную аудиторию, а его
заставляли освещать... пыльное трехногое кресло; и вместо
того, чтобы кресло вынести, он восклицал:
- Кресло - прекрасно: нигде я не видел такого!..
Вот еще математик: профессор Леонид Кузьмич Лахтин;
скромный, тихий, застенчивый, точно извечно напуганный,
точно извечно оскопленный, с маленькою головкою на высоком
туловище, с редкой растительностью; он и в молодости имел
вид... скопца; и уж, конечно, видом своим не хватал звезд;
но отец отзывался о нем:
- Талантливый математик!
И Леонид Кузьмич любил нежно его: после смерти повесил
его портрет в увеличенном виде у себя в кабинете, указывая
на него матери; и говорил ей:
- Нет дня, чтобы я мысленно не обращался к моему
учителю и вдохновителю!
Отец любил Лахтина не только за тихую скромность, но и
за ум; и, кажется, ему помог в первых научных его шагах;
появился он у нас растерянным молодым человеком, садился в
стул, ронял нос в стакан чая, перетирал влажными руками; и
невероятно косил выпученными глазами; позднее он был и
реальным помощником отца, как секретарь факультета при
декане; и часто являлся с портфелем: под предлогом дел
посидеть за чаем от 8 до 91/2, когда отец уходил в клуб.
Отец распространялся при нем на самые разнообразные темы:
от темы факуль-
61
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
тетской до комментария к Евангелию; Лахтин не
распространялся, а слушал: роняя нос в стакан, перетирал
влажными руками; и пучил глазки.
Этот небойкий светлый блондин с худым лицом и малой
растительностью, вспыхивающий от стыда и перепуга и тогда
становящийся пунцовым, одно время почему-то вызывал в
матери, болевшей чувствительным нервом, иррациональные
взрывы негодования; и отцу указывалось:
- Тихоня этот ваш Леонид Кузьмич: сидит, молчит, косит,
высматривает!
А мне выдвигалось:
- Вырастешь вот этаким вот вторым математиком: смотри
тогда у меня!..
И я трепетал; и начинал со страхом поглядывать на
перепуганного Лахтина и подозревать его самое появление у
нас в доме.
Бедный Леонид Кузьмич!
Впоследствии мать устыдилась своей истерики; после
смерти отца бывала у Лахтиных, возвращалась от них
взбодренной и постоянно ставила в пример Лахтина:
- Прекрасный человек... А как любит Николая
Васильевича!
А было дело: однажды явился Лахтин; мать, особенно
нервничавшая, перед носом его и отца захлопнула дверь в
гостиную; отец растерялся и, усадив растерянного Лахтина,
клюющего носом в клеенку стола, стал его разгуливать; но
из-за замкнутой двери раздалось отчетливо:
- Опять сидит тут этот косой заяц!
Лахтин стал малиновый; и через две минуты исчез; не был
три месяца; и - опять появился д л я о т ц а, р а д и л
ю б в и к н е м у; в этом сказалось его достоинство, его
моральная сила.
Умов - разумник; Млодзиевский - умник; Леонид Кузьмич же
казался мне серым, убогим, неинтересным; казался -
педантом; а он был гораздо талантливей Млодзиевского в
математических выявлениях по уверенью отца; и позднее я
видел в нем некую
62
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
силу прямоты и чистоты ("Блаженны чистые сердцем"); пусть
она проявлялась в узкой прямолинейности; у него было
нежное, тихое сердце; и он многое возлюбил и многое утаил
под своей впалой грудью, в месте сердца, которое спрятано
под сюртуком, всегда наглухо застегнутым.
А когда я потом его видывал профессором в форменном
сюртуке, бредущим по университетскому коридору со странно
загнутыми кистями рук (точно он терял манжеты), с клюющим
грудь носом, он казался человеком в футляре, верней...
пиголицей в футляре, а может быть, и законсервированным
пеликаном, клюющим собственное сердце.
Во всяком случае он был герметически закупорен в ясную
металлическую жесть, в жестокую жесть университетского
быта; и не противился, неся на себе в годах эту жесть.
И никто не мог бы сказать, что под этою жизнью пылало
сердце; и прядали математические таланты; а как
трогательно он волновался во время болезни жены своей,
когда был молод? А как нежно любил он отца?
Там, где Млодзиевский блистал красноречием и очками,
Лахтин начинал поникать, моргать, косить, краснеть и мять
руки, точно мучаясь своею бесталанностью (он-то и был
талантлив в чистой науке!); а где действовало сердце, там
он высказывал свой высокий, хотя и уплющенный,
однолинейный рост.
Мать моя, некогда заподозрившая его кротость и не
видевшая его научных талантов, предпочитала юрк
Млодзиевского и блеск его холодных очков, - блеск стекла;
но юрк Млодзиевского в культурных гостиных был лишь
беспомощным метанием летучей мыши, попавшей из мрака в
свет; Лахтин же откровенно садился в уголочек; и в
"высшую" культуру не вмешивался; под сюртуков этого
"формалиста" сердце билось тепло; и не укалывались о него,
как укалывались о холодные осколки очковых стекол
Млодзиевского.
Бобынин, Млодзиевский, Умов, Лахтин, - а не показываю
ли я читателю коллекции ярких, редких уродств, махровых
уродств? Нет. я показываю крупные, редкие, талантливые
экземпляры ви-
63
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
да homo sapiens; но, нo: у одних менее обезображены ноги
обувью, у других - более; те, кто носит жесткие башмаки и
много ходит, у того больше мозолей; кто сидит пентюхом,
мозолей не имеет; но мозоли - не предмет эстетического
разглядения; покажи кто свои мозоли, - ему скажут: "О,
закрой свои бледные ноги!" А в Бобыниных, в Лахтиных мозоли
большой работы вылезли на лицо; и рассеялись на нем
бородавками: кричать издали; и люди указывали:
- Какой урод!
Урод, потому что много вертел головой в ужасных тисках
быта, в результате чего мозоли вылезли и кричат с лица.
И никому невдомек, что это вопрос обуви, что надо что-то
изменить в производстве обуви и не подковывать так ужасно
ноги профессора; тут ведь "профессорша" могла бы кое-что
сделать; но мой разгляд этого быта мне показал:
"профессорша" не только не боролась против изготовления
железных башмаков и жестяных сюртуков, но находила, что т
а к н а д о, ибо - т а к у в с е х; начиналось ужасное
"как у всех". Профессора затягивали в панцырь, и скоро
знаки ужасной деформации, мозольные пятна, выступая на
личности, появлялись и на лице.
Математики виделись мне особенно деформированными, точно
они поставили девиз: "Никаких поблажек!" Мой отец только
приват-доцентом попал в театр; может быть, - Леонид
Кузьмич Лахтин... тоже? Математики по моему наблюдению
меньше имели "авантюр на стороне"; под "авантюрой" разумею
я выход в иной быт; имей они больше этих выходов, куда
угодно, в какой ни на есть иной быт, - они бы не пришли к
этому харакири, производимому над самими собою, как
людьми; они не втемяшивали бы себе в голову кола общейших
правил "нашего" и "только нашего" быта; Стороженко - тот
общался и с Кони, и с Толстым, и с газетчиком, и с
артисткой, и с просто читающей публикою; зоолог Усов
изучал костяки, но и наблюдал живые замашки зверей;
"биология" как-никак наука о проявлениях "жизни"; и Усов
любил жизнь во всех ее проявлениях.
64
|
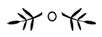
|
|
|
 |

