 |
|
|
|
 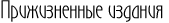
Информация о книге :: Следующий блок >>>
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
АНДРЕЙ БЕЛЫЙ
ОДНА ИЗ ОБИТАТЕЛЕЙ
ЦАРСТВА
ТЕНЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЛЕНИНГРАД 1925
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
АНДРЕЙ БЕЛЫЙ
"ОДНА ИЗ ОБИТЕЛЕЙ
ЦАРСТВА ТЕНЕЙ"
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЛЕНИНГРАД
1924
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
Гиз. © 6988, Ленинградский Гублит © 7224. 45/3 л.
Отп. 5.000 экз.
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
"ОДНА ИЗ ОБИТЕЛЕЙ ЦАРСТВА
ТЕНЕЙ"
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
НЕСКОЛЬКО ПОЯСНИТЕЛЬНЫХ СЛОВ.
Мне очень трудно делиться своим впечатлением о
пребывании в Германии, - вот почему: Я всю жизнь
называл себя западником; неоднократно писал я о
скудости славянофильства; явления так называемого
"русского духа" мне были враждебны; я чужд был всех
привкусов национального самодовольства; переживания
пресловутого настроения "русские шапками-де
закидают Европу" - претили мне; между тем: вывод
моих впечатлений от кусочка Европы теперешних дней
и сравнение этого кусочка с Россией, боюсь я, для
многих покажется самодовольством таким; мое
двухлетнее пребывание в Берлине окрашено теневыми
какими-то настроениями; и сравнение их с
настроением от работы и жизни в России 18 - 21
годов вызывает сравнение тени и света. Да, светом
окрашено мое пребыванье в Москве, в Ленинграде
недавней эпохи. А пребыванье в Берлине окрашено
тенью.
Я оговариваюсь: я говорю не о трудных условиях
жизни в холодных, в голодных, в разбитых квартирах,
не о явлениях несения ежедневных тягот, а о чем-то
другом; среди голода, холода, ТИФЭ, неосвещенных
Москвы, Ленинграда я чувствовал свет: свет победы
5
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
сознания, расширенного и парящего над телом,
природой животного; многие грелись проблемами судьб
человечества, зажигая вселенские мысли в своей
голове, затепляя вселенские чувства в сердцах; и -
в руке конденсируя волю; и - вспыхивал свет
просветляющий, нам освещая, осмысливая кризисы
жизни; и сдвиг сознания высекал нечто новое.
Не раз видел я в освещенных, роскошно
обставленных ресторанах Берлина грустнейшее
угасание сознания, перегруженного благополучием
косности и разбивающегося при выходе из ресторана
на улицу, посылающую буржуа свои грозные тени;
чувствовал я на себе угашение света, который светил
мне в России; меня обступали явления
парализованного сознания, суженного и падающего в
объятия животной природы; тогда весь Берлин
выступал предо мною "обителью царства призраков".
Кроме того: каждый знает из вас то явление,
которое психофихиологии вместе с Вундтом пытаются
охарактеризовать, как явление аналогии ощущений,
когда звук переживается ярко, определенно
окрашенным, или цвет предстает, как звучащий; как
часто мы все, попадая впервые в еще незнакомый нам
город, подыскивая характеристику города,
прикрепляем ее к одной малой, типичной черте,
превращающейся в лейт-мотив, сопровождающий всюду
нас, когда, например, выступает один яркий цвет из
градаций многих цветов; и с ним связывается
внутреннее восприятие - города, страны, класса; в
том смысле могу говорить об окраске страны или
города: так, когда-то мне Мюнхен возник голубым;
так Тунис мне стоит снежно-белым; определенно
коричневым возникает Каир; и возникает Берлин серо-
бурым, с коричнево-серыми и зловещими полутенями
атмосферы, его обволакивающей; эта последняя
рисовалась мне фоном картины, изображающей царство
6
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
теней древних греков, или мрачной обителью
подземного мира Египта, где строгий Озирис чинил
над усопшими страшный свой суд.
Этою атмосферой окрашен Берлин.
Он, весною отвеяв зеленым листом, нестерпимо
жареет ужасною, бурою копотью летом, и серая
буроватая мгла повисает над ним осенями и зимами;
шлепают под ногами такие же бурые, мокрые от дождя
тротуары; и справа и слева уходят в томительно
бурые ряды зданий десятков безвкуснейших штрассе,
перечисляющих имена Гогенцоллернов, Габсбургов и
Гогенштауфенов, - не параллельно бегущих, а
образующих те же звезды пересечений, где в центре
пересеченья увидите тощенький скверик с сидящей все
той же старушкой, с той же собачкой, сидящей перед
нею, и задирающей нос на безвкуснейший монумент,
напоминающий груду тяжелой посуды; на всех углах
улиц, - кафе, рестораны и дилэ, и непременная
надпись пивной, прославляющей вывеску Фирмы; здесь
- Patzenhofer, там - Schultheis, Berliner, Kinde и
так далее (так на одной только Victoria-Luisen
Platz насчитал до 13 заведений подобного типа); и
все это - в бурой, тоскливейшей дымке; и бурые,
скучные, пресные бюргеры спешно бегут в буроватых
пальто вдоль тех улиц, вдоль скверов, вдоль площади
и проваливаются в дыру, зияющую посредине, чтобы
выскочить где-нибудь (может быть в отдаленном
квартале) из точно такой же дыры; и увидеть опять-
таки постамент, сквер, старушку перед ним, ее пса;
и нестись вдоль такого же буроватого, пренелепого
ряда домов в буроватой томительной мгле, под
буреющим небом, над бурым асфальтом.
Мне помнится, - кто-то назвал небо этого города
нежно-сиреневым: может быть, этот оттенок бывает.
Не знаю: не видел.
7
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
На лицах - растерянность а в глазах суетливое
недоуменье испуга, досады; досада на - настоящее; и
испуг перед будущим; марка - упала опять;
коммунисты шевелятся здесь; Людендорф - угрожает
оттуда; нельзя не сознаться: советская власть
импонирует; и - хорошо, что Мальцон там кого-то с
Востока встречает; однако: быть может, - Пуанкарэ
завтра, может быть, сменит на милость свой гнев; а
может быть, - выручит Англия. Так меж "постольку,
поскольку", недоуменно, испуганно ерзают глазки
бегущих берлинских мещан по безвкуснейшим
августейшим проспектам и улицам: Кайзер Аллэ,
Бисмарк-штрассе, Гогенцоллернплац, Гогенштауфен-
штрассе, Вильгельмштрассе и Фридрихштрассе. А у
меняльных киосков - хвосты; то ауслендеры (1).
О, ужаснейший, серый и гаснущий город.
И кажется: эти бегущие буржуа среди мороков
суетливейшей и бессмысленной жизни заспали свой
собственный свет; и вот уличная суета, регулируемая
образцовою палочкою зеленого полицейского, переле-
танье трамваев, стоянье авто (кто же может на них
теперь ездить), кричанье газетчиков "Бе - Цетт,
Моргенпост", - регулируемая в образцовом порядке
текущая бестолочь бреда; и кажется: жизнь,
охватившая вас, в ряде месяцев огранизованно
опускается вместе с бурыми зданиями, небом над ним,
тротуаром, трамваем, - на дно, под глухое гуденье
Фокстроттов, под дикие звуки Джазбанда (2),
крикливо летящие из ближайшей кофейной плусульни.
И вы начинаете вопреки всем протестам сознания и
мировым мыслям, живущим в вас, стаскиваться
организацией и порядком в то темное дно.
(1) Иностранцы.
(2) Особый набор из барабанов, колоколец и дощечек.
8
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
И тут для меня возникают вопросы: неужели же
прямые наследники великой немецкой культуры - ее
музыки, поэзии, мысли, науки - теперь отложилися от
нее, одушевляемы не зовами Фихте, Гегеля, Гёте,
Бетховена, а призывом фокстротта. И неужели зовет
человечество вовсе не свет из грядущего, а далекое
дикое прошлое в образе и подобии негритянского
барабана; и мне, очень долго воспитывавшемуся на
традициях культуры Германии, за эти месяцы
пребывания в Германии приходилось не раз с
недоумением утверждать, что великой культуры как
будто и нет в проявлениях жизни предо мной
мелькавшего немца, и что нам, русским, в данном
случае новому слову культуры в Германии невозможно
учиться, а остается заимствовать приобретения ее
недавнего прошлого: технику и науку.
Мне трудно касаться и умственного кругозора тех
множества русских, печальнейше погруженных во мрак
буро-серого города, печально месящих бурду
изжитого, умершего прошлого, за пять лет не
создавших ни в сфере искусства, ни в сфере искания
мысли ничего оригинального, утверждающих буро-серое
политиканство, зачитывающихся страницами буро-серых
романов Краснова, провозглашающих поэзию Саши
Черного национальной поэзией.
Да, эмигрантов я видел; со многими я общался в
беседах; средь них, ну, конечно, есть всякие люди,
как понимающие бесплодицу "эмигрантщины", так и
вовсе не понимающие ее; не хочу нападать на людей;
не хочу говорить об эмигрантах, касаясь эмиграции.
Заграницей писал положительно я о творимой культуре
в Советской России, с максимальною резкостью я
высказывался о культуре "берлинской" России - в
Берлине: и потому - то в Москве мне не хочется
останавливаться на явлениях угашения твор-
9
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
ческих импульсов среди русских Берлина, где все
новое, свежее создано только выходцами из
Ленинграда, Москвы, то-есть временными гостями
Германии.
Я пройду мимо личностей и постараюсь провести
перед вами свой "миф", или сказ о Берлине: сожму в
Фигуральные образы эту обитель тяжелого "царства
теней".
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
О ТОМ, КАК "НЕКТО" ПОПАЛ В БЕРЛИН
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
О ТОМ, КАК "НЕКТО" ПОПАЛ В БЕРЛИН.
Я буду говорить о "некто": nomina sunt odiosa.
"Некто" не бежал из Советской России; заграницей
у "некто" были неотложные, жизненные дела; "некто"
с трудом выбрался из России; у "некто" не было
готовой немецкой визы; он собирался получить ее в
Риге.
"Некто" наслышался о сытой довольной жизни в
счастливой Латвии; "некто" попал в Ригу; и -
нисколько не обрадовался Риге: в воздухе стояла
гнилая серость октябрьской слякоти, а в воде
отражался свинцовый туман; за твердые же предметы
нахальнейше драли с подозрительного русского,
узнавая мгновенно, по внешнему виду (потрепанной
шапке и странного вида пальто) носителя
"большевистской" отравы. Унылый мотив Саца из
"Жизни человека" явственно звучал "некто" в
атмосфере столицы великолатвийской державы; и
"некто в сером" встретил "некто" в виде скучнейшего
и пошлейшего серого листка, издаваемого русскими
эмигрантами.
Горделивые латвийские граждане, отличающиеся
полностью и удельным весом своих животов и носов, в
этот единственный день пребывания "некто" в Риге
неоднократно счастливили "некто" своим
снисходитель-
13
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
ным указанием на то, что все, что "некто" и видит,
и слышит - богато и пышно, а "некто" казалось, что
все, обстающее "некто", - убого и пресно; тяжело
становилось в обстании пресной безвкусицы, сопро-
вождающей выскочек; вместо торжественной пышности
эта безвкусица расстилала перед взорами "некто"
лишь бедно одетых картузников, объясняющихся по-
русски друг с другом и озираемых оком случайного
животастого выскочки, пересекающего бедноту с
чванным видом, напоминающим стремление лягушки
сравняться с волом. "Некто" думал в тот день; где
осмысленность русского взгляда, к которому так он
привык? На разбитых, холодных проспектах Москвы,
Ленинграда в сравнении с Ригой блуждает какая-то
"рвань"; но у "рвани" живые глаза, острость
взгляда, свидетельствующая об упорности идейного
устремления: "некто" привык, что прохожие уличные
имеют глаза. Оттого-то отсутствие "глаз" у
почтенных мещан, пересекающих почтенные улицы
великолатвийской столицы, смутило его: "Где глаза?"
- думал он. Вместо глаз - только дырки с.......
отсутствием одушевленного взгляда. Отсутствие глаз
у прохожих культурных латвийцев пугало его: да,
"глаза" поисчезли; но появилось вместо "глаз" и
надглазие, и подглазиев виде черного котелка и
приличного вида пальто, обрамляющих безглазое,
обнаженное средоточье одежды, обычно имеющего в
Ленинграде, в Москве именование "лица"; но "лица"-
то у граждан латвийских и не было: "личность"
отчетливо провалилась в одежду.
Тут "некто" взгрустнулось; он вспомнил: недавно
еще он присутствовал на многолюдном собрании, где
"рвань" заполняла огромную аудиторию, где
раздавались утонченные рассуждения о "Скифах" и о
"Двенадцати" Блока; он вспомнил, как "рвань"
провожала его проникновенным сердечнейшим словом;
он
14
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
вспомнил, как юноша вовсе ему незнакомый, одетый в
такую же "рвань", как и все, говорил ему:
"Слушайте, "некто": когда вы останетесь там,
заграницей, один, когда станет вам грустно и
страшно, то вспомните, что мы любим вас, что мы
помним вас; и, наверное, станет вам легче". Так
"некто" в высокоторжественный день своего
водворения в сытой, приличной, одетой латвийской
столице, с отчетливой грустью припоминал сердцу
милую "рвань", не имеющую, правда, пары латвийских
ботинок и заменяющих эту пару - horrible dictu -
чудеснейшими, осмысленными и подлежащими латвийской
цензуре глазами.
И отчего-то припомнился маленький городишка,
Карачев, где "некто" провел в девятнадцатом году
весь июнь и июль. Кругом царствовал тиф; пыль
летала по улицам; под ногами блистали в огромнейшем
изобилии осколки стекла; надвигался Деникин;
эвакуировали весь юг; через Карачев стремительно
деФилировали эвакуируемые учреждения; между тем:
жизнь кипела; плакаты, собрания, митинги (и -
коммунистов, и анархистов); организовались спешно
кружки; и - собиралась прекрасная библиотека; в
отделении "Myзо" Наркомпроса преподавалась Эвритмия
для резвой сознательной детворы; и под звуки Шопена
и Шумана развивалась культура движения. Помнится, -
в это лето для "некто" вставало сомнение: правда
ли, что в провинции он? Неужели в провинции
исчезает "провинция"? Здесь же, в латвийской
столице, средь чистых, красивых, тишайших домов,
водворилась безглазая провинциальная скука; и
мысль, что здесь "некто" засядет с неделю, его
угнетала; стояло в душе: "И скучища же в этой
Риге!.."
А в Риге тогда не любили Советскую Россию; и в
Риге тогда не любили Германию; все же, что
выступало пред взорами "некто", - все было: вчераш-
15
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
ней Россией, вчерашней Германией, наскоро
закрашенной "охрой" латвийского величия; так, -
"некто" видел: наскоро закрашенные вагоны,
отобранные у Советской России; и - незакрашенные
немецкие кирки (с подлинной Латвией, Латвией
художников, он познакомился после, - не в Риге: в
Берлине!).
Весь первый день счастливого переезда в
счастливую "заграницу" окрашен для "некто"
острейшей тоской по Советской России; и "некто"
поймал себя вдруг на том, что вполне бессознательно
он насвистывает современную русскую песню:
И, как один, умрем -
В борьбе за это!
И - тут оборвал себя: за "дело это", за свист, -
попадешь еще "в дело"!
Тут с радостью "некто" стал думать об отдыхе; и,
вернувшись в сырую дыру, именуемую "отельною
комнатой", за которую в сутки так драли и от
которой при всей своей скромности он не был в
восторге, - вернувшись в "дыру", он мечтал о покое;
просил он затеплить огонь; и хотел было протянуть
на диване усталые ноги, - вдруг стук... - "Что
такое?" - "Пожалуйте в комендатуру". - "Зачем?" -
"Разберут там, зачем". Делать нечего! Комендатура
же оказалась поблизости. Великолепнейший офицер,
изъяснявшийся великолепно по-русски, старательно
просмотрел документы; и, скашивая свой разгневанный
глаз на кровавого цвета обложку советского
паспорта, он объявил: "Не имеете права ночлега вы в
Риге: у вас лишь проездная виза; вам остается лишь
два часа до отбытия поезда".
И "некто", вернувшись в гостиницу, стал
собираться к отъезду. Хозяин гостиницы
неоднократно стучался, напоминая, что срок
истекает и что пора
16
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
и смутили грязнейшие "бутасы" города Ковно
(именование улиц).
Литовцы к нему повернулись весьма симпатично;
великолепных жандармов к нему не приставили; но
первые дни ощущалась одна неприятность: не говоря
уже о комнате, невозможно было даже найти просто
угла, где склонить свою голову! Первая ночь
встретила "некто" грязненькою столовой какой-то
корчмы, где устроили нечто подобное ложу ему вместе
с рядом таких же, как он, несчастливцев:
"Подумайте", объясняли литовцы ему, "ведь все Ковно
рассчитано maximum - на 35 тысяч: теперь же здесь
minimum проживает тысяч двести"... С первого дня
пребывания в Ковно пред "некто" предстали знакомые:
москвичи, петербуржцы, - один, десять, двадцать; и
- далее... Все оказалися в Ковно! Все стали
"оптантами"! Можно было подумать: с момента
возникновения литовского государства часть истинно-
русских людей (уроженцев Москвы, Ленинграда) себя
осознал и литовскими подданными.
В Литве неожиданно вдруг открылось для "некто",
что и Кант был литовцем, и что назначена премия
государством тому, кто докажет литовское
происхождение Канта при помощи осязательных данных;
и стало вскрываться предположение: может быть сам
великий Коперник, - совсем не поляк, а литовец
(подобно Мицкевичу); а за этим вскрывалась туманная
перспектива когда-нибудь выяснить, что Хоп?н (иль
Шопен, - не Хоп?н, а Хоп?нас (литовец), подобно
Ивану Ивановичу, петербургскому обывателю, ставшему
в Ковно матерым литовцем: "Подумайте, - И в а н а с
И в а н о в и н а с!
Так как этого же нельзя было сказать про великого
Пушкина (негритянское происхождение последнего от
Литвы отрезало его), то и улица Пушкина
18
|
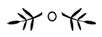
|
|
|
 |

