 |
|
|
|
 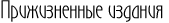
<<< Предыдущий блок :: Следующий блок >>>
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
в Ковно исчезла с лица земли; в славном же
столичном театре (старинненьком, деревянненьком
зданьице - человек так на двести) на занавесе
оказалась заплата (было вырезано, вероятно,
изображение какого-то из деятелей русской сцены, -
конечно, на время: впредь до подачи прошения оным
из царства теней о получении им литовского
гражданства); та заплата смущала самосознание
"нектаса" на представлении "Гедды Габлер", шедшей
на древне-литовском наречий и уносящей творение
Генрика Ибсена в глуби санскритской фонетики (как
известно: в литовском наречии жив санскрит в наши
дни).
И такие же точно заплаты, вернее - чехлы,
представляли собою иные литовские деятели, с
которыми познакомился "нектас"; встречался литовец,
- какой-нибудь "-ас", или "-ис" - это только чехол;
а под ним укрывался "б е з а с н ы й: Иванов,
Петров, Соловьев - из Москвы, Ленинграда, Саратова;
так пребывание в Ковно для "н е к т а с а-н е к т о"
явилось практическим семинарием по изучению
Овидиевых "Метаморфоз".
"Нектаса" пригласили на вечер литовских
писателей, устроенный обществом литовских деятелей
искусства, возглавляемых писателями и поэтами
Киршей и Гиро (ведь вот: коренные литовцы по воле
судьбы оказалися с именами без истинно-литовского
окончания); на вечере обращались к "нектасу" с
приветственным словом, которого "нектас" не понял,
не будучи посвящен в тайну речи; выслушивая
любезное слово, подумывал "нектас": "А, чорт
возьми, - кто докажет, что ты не ругаем: сиди,
улыбайся на предполагаемое приветствие; а
неизвестно, что вложено в слово, которое, может
быть, - тоже заплата". Но - делать нечего: нельзя
требовать знания русского языка от литовцев...
Каково же было удивление "нектаса".
19
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
когда после обильной закуски и выпивки снялся
литовский чехол с русской речи; она раздалась за
столом: перешли на русский язык; "-ас" и "-ис"
отлетело; Овидиева Метаморфоза случилась; и
обнаружились все такие знакомые лица, запевшие
хором российские песни; и тот оказался вчерашним
студентом из Ленинграда, а эта московской
курсисткой, бывавшей на лекциях "нектаса".
Литовские деятели искусства оказались культурными
интеллигентами: тот был представителем
народнической тенденции; этот имел тяготение к
"дадаизму", "экспрессионизму", пересаждая последнее
слово немецкой поэзии в литовское слово; особенно
"нектасу" помнится Бинкис - поэт и мыслитель,
талантливо переживающий современность и осознавший
огромность эпохи, как кризис всей жизни; запомнился
почтеннейший Тумас, оппозиционно и лево настроенный
по отношению к линии правительственного поведения.
Тут "нектасу" предложили остаться в Литве и
выработать схему студии стиховедения по плану,
литературной студии московского Пролеткульта; но
"нектас" стремился в Берлин. Тем не менее в Ковно
он прожил томительный месяц, удерживаемый немцами,
устраивавшими здесь заградительную заставу для
тысячи евреев и русских, неделями, месяцами,
полугодиями ожидающих благословенного мига: прохода
в Германию; немецкое консульство вело себя по
отношению к "нектасу" - прелюбезно; литературное
имя "нектаса" немцам было известно; они говорили
по-русски с ним; и - даже: его приглашали на чашку
чая; и - даже: представители немецкой власти
посещали его публичные лекции в Ковно, заходили в
лекторскую и высказывали комплименты; а пускать -
не пускали; искомая проездная виза в Германию
повисала и туманнейшем воздухе; из Берлина пришло
разрешение из Polizei-
20
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
поляки высаживают обратно; и в "польском коридоре"
вагоны пломбируют; так мысли о "польском коридоре"
мрачили самосознание "нектаса" - в "польском
коридоре" Перковского, где за столик подсаживались
увеличивающиеся, как лавина, знакомые "нектаса";
сколько прослушивал он здесь излияний и жалоб на
Ковно от чающих движения в Германию; скольких
впоследствии "нектас" встречал уж в Берлине - на
Курфюрстендамме, на Тауэнцин - и Моцштрассе: "А,
здравствуйте... Помните?" - "Не узнаете:
встречались мы в Ковне, в кофейне Перковского"... И
вставала картина унылого высиживания в
неизвестности - дней и недель у Перковского. И
прибавлялось всегда: "Грустное было время". Да,
грустное время переживал "нектас" в Ковно;
Германия; Германия отступала в туман неизвестности,
иль в чернильницу немецкого консула в Ковне; из
этой чернильницы ведь должен был истечь росчерк
пера на бумагу, тебе открывающую двери в Германию.
Итак, тяга обратно в Советскую Россию уж
чувствовалась у преддверья Европы. И поднималося
возмущенье на то, что как только покажешь ты
"красный свой паспорт" чиновнику консульства, так
уже замечаешь, что нос его передергивает еле
заметная судорога, точно нос сдерживает неудержимо
щекочущий насморк, как будто из паспорта дует на
нос тот сквозняк, образующий насморк; сквозняка иль
"восточного ветра" боялись поляки в своем
"коридоре" ужасно: и оттого-то вагоны литовские
пломбировали они.
И потому-то заранее "нектас" решил, что себе
избирает иной он маршрут на Берлин: через
Кенигсберг - Свинемюнде - Штеттин.
Предварительно пред отправлением в Германию он
посетил национальный литовский музей, или комнатку,
составляющую несколько квадратных метров, пора-
22
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
жающую голыми стенами и отсутствием мебели; в одном
углу этой комнаты он увидел, как помнится, пару
литовских крестов да несколько вышивок, а в другом
углу кучечку друг к другу приставленных картин
Чурланиса; "нектас" подумал, что, пожалуй,
литовские национальные древности более обильно были
представлены в дворянских квартирах Москвы,
Ленинграда, традиционно перекрещенными мечами,
щитами и щишаками, отсутствовавшими в национальном
музее Литовской столицы; указывая на предлежащие
ценности "нектасу", сопровождавшие его лица
сказали, что некогда все это будет развешано и
расставлено здесь, в помещении этом, и "нектас"
подумал: "Не развесить ли нам в имеющиеся у нас
две-три свободных минуты все эти сокровища и не
приблизить ли этим высокоторжественную минуту
национального праздника открытия велико-литовского
Музея Культуры?"
Но мысли своей почему-то не высказал "нектас".
Он вскоре покинул Литву: предварительно он
потерял надежду покинуть ее для Германии (и
собираясь покинуть ее для Советской России), когда
ему в консульстве категорически заявили, что обе
визы его (из Auswдrtiges-Amt и из Polizei-Prдsidium
Берлина) бесценны, пока за него не поручится кто-
нибудь из известнейших граждан Литвы в том, что
"нектас" через два ровно месяца снова вернется в
Литву; так как этого "нектас" не собирался
исполнить, то он, опустив грустно нос, удалился из
консульства; консульство же известило его
неофициальным путем, что им выдвинутое требование
необходимо. Произошла грациознейшая игра в жмурки,
когда он явился за получением визы в немецкое
консульство, где все знали, что "нектас" поедет
надолго в Берлин; тем не менее "нектас" был спрошен
чиновником с весьма строгим видом, себе завязавшим
глаза: - "Итак вы
23
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
зеленые полицейские демократы явились за "некто" в
буфет, и, увидев его с удовольствием поглощающим
бутерброды, они обступили его, принимаясь
добродушно покрикивать, протянув к нему пальцы:
"Der russische Fresscr!", что значит в буквальном
переводе: "А, вот - русский "жрец" ("fressen" -
"жрать")!"
Так в Германии стал неожиданно "некто" жрецом -
не в священном, а лишь поедательном смысле; и
"некто" весьма удивился тому, что обед полицейского
вероятно равняется лишь 1/2 тощего бутербродика,
так что два целых бутербродика роскошь, магически
превращающего русского обывателя в жреца, а
действие его - в культ пищи.
Еще поразило одно обстоятельство: служащие у
кают, щеголеватые и кокетливые горничные, отдавая
каюты беспечным и состоятельным кенигсбергцам, о
чем-то уславливались с ними; и - даже казалось:
условие это сводилось к тому, что молоденькие
кокетливые создания затворялись зачем-то на время в
каютах с веселою кенигсбергскою молодежью,
требовавшей этого затвора с таким независимым
видом, с каким они требуют за столом ресторана
обычного "п а п р и к а-ш н и т ц е л ь". "Некто"
имел основательную неосторожность себе заказать,
как и многие, на ночь кабину: и - только!
Вообразите же его изумление: вечером дверь в кабине
открылась; и появилась девица, весьма озабоченная
тем обстоятельством, что "некто", себе заказавши
кабину, не требует ничего дополнительного к кабине;
узнавши, что "некто" доволен своим одиночеством,
эта девица обмерила его недоумевающим взглядом, как
будто бы говорившим: - "Ну, и чудак же? Для чего в
таком случае вам кабина? Не для того же, чтобы в
ней проскучать одному?"
Так Берлин появился пред "некто" еще до Берлина
во образе беззаботного зеленого полицейского,
сытого
25
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
1/2 бутербродика и в образе розовой барышни,
несущей полицейскую службу между каютами. Эти
первые впечатления Германии оказались интродукцией
к двухлетней берлинской жизни.
О ТОМ, КАК ХОРОШО В БЕРЛИНЕ.
"Некто" попал с вокзала в ту часть Берлина,
которая русскими называется "Петерсбургом", а
немцами "Шарлоттенградом"; здесь русскими
предпринимателями во всевозможных кабарэ
демонстрируется камаринская, сопровождаемая
припевчиком "danke schцn, bitte sehr", который к
присутствующим обращает "такой-сякой камаринский
мужик"; припевчик, наверное, означает "благодарю,
не ожидал"; немцами здесь распеваются истинно-
национальные немецкие песни: "Sonja", "Natascha" и
"Ahnuschka". В первой, которую немцы особенно
любят, проходит припев:
Sonja, Sonja, - deine schwarze Haaren
Kьsse ich im Traume tausend Mal...
Kann dich nicht vergessen, wunderbahre
Blume aus der Wolga Thai.
Она открывается строчкою:
"Endlos, endlos dehnen sich die Steppen".
Во второй опять-таки поминается Wolga, что в
переводе на истинно-шарлоттенградском наречии
значит; "не Волга, а - Рейн".
В третьей же, в "blonde Annuschka" фигурирует все
какой-то "Piotr Fiodorowitsch mit lange Bart". Этот
"Piotr Fiodorowitsch mit lange Bart", очевидно,
есть истинный обитатель Шарлоттенграда, бродящий
рассеянно по Курфюрстендамму, в то время как
"Annuschka", ста-
26
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
очень скоро (когда собеседники поразъехались из
общего пансиона) начать выпады против вольно-
философской ассоциации, открытой при участии "некто":
ассоциация подозревалася в большевизме; знакомый же
"некто", с которым редактор "Р у л я" преспокойнейше
спорил, объявлен был тем же "Р у л е м" чуть ли не
большевистским агентом.
Так парадоксы шарлоттенградской действительности
вскружили голову "некто" в первый же день его
появления в Берлине.
"Некто" поселился на Пассауерштрассе, почти на
углу Виттенбергплац, против знаменитого Ka-De-We
(Kaufhaus des Westens), в витринах которого брыж-
жут градации нежных шелков, располагаемых руками
художников-декораторов (то градация переходит от
голубого к лимонному, то градация переходит от
ярко-оранжевого к смутно-лиловому), где жеманные
восковые красавицы демонстрируют свои туалеты;
вертящиеся двери блестящего Ka-De-We пропускают с
утра и до вечера толпы франтих и изысканных
франтов, усерднейше развозимых подъемником во все
четыре огромных этажа; элегантные приказчики и
приказчицы рассыпают пред ними предметы; не сразу
заметите вы, что среди всех здесь собравшихся наций
- поляков, чехо-словаков, китайцев, японцев и
русских - отсутствует одна только нация: немецкая
нация; эта последняя предпочитает далекие и дешевые
магазины, обставившие Александерплац и Штеттиннер
Банхоф; "Кадеве" - не по карману для немцев; и даже
- потом открывается: не по карману Шарлоттенград;
он - для русских по преимуществу.
На Виттенбергплац выбрасывает Унтергрунд (3)
разбегающиеся кучки людей по звезде улиц, к нему
(3) Подземная железная дорога.
28
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
прибегающих, и глотает такие же кучи; здесь вечером
сияет ослепительно электричество разных кафэ; здесь
в российском "Медведе" прислуживают кельнера-
офицеры (из русских дворянских фамилий); и здесь в
кафе "Buscho" огромное множество русских из Лодзи
отчаянно спекулирует: действует черная биржа; здесь
функционирует Nacht-Local, где танцуют в костюмах
праматери Евы несчастные служащие одного торгового
заведения; поблизости с угла Клейст- и Лютер-
штрассе унылейше раздается обычное: "Komm"...
А утром здесь действует рынок.
Жизнь Виттенбергплац лишь изредка нарушается:
облавою полицейских на черную, биржу; и нарушается
еще реже - коммунистической манифестацией;
поднимаются красные Флаги; и - и проплывают: в
раскрытую бездну кварталов.
Тут начинается шарлоттенградский Кузнецкий Мост -
виноват: Тауэнцинштрассе - центр русских парти-де-
плезир по Берлину, - та Тауэнцинштрасее, о которой
поют куплетисты во всех кабарэ Шарлоттенграда и
летних приморских курортов:
Nacht! Tauenzin! Kokain!
Das ist Berlin!
И - буржуазная публика ржет: всему миру известно
про "Nacht", "Kokain", "Tauenzin". Кого здесь вы ни
встретите! И присяжного поверенного из Москвы, и
литературного критика вчерашнего Петрограда, и
генерала Краснова, и весело помахивающего серой
гривой волос бывшего "селянского" министра В. М.
Чернова; недавно еще здесь расхаживал скорбно
согнувшийся Мартов; здесь, по меткому выражению
Виктора Шкловского, днем бродят - по-двое
непременно - с унылейшим и рассеянным видом
седобородые русские профессора, заложив руки за-
спину: и те, что при-
29
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
ехали на побывку в Берлин из alma mater ученых
слоев эмиграции - Праги; все, все здесь
встречаются! А прибывающие из России здесь именно
запасаются обувью, перчатками, шапками и зонтами;
сюда появляются в диких, барашковых шапках, в
потрепанных шубах Советской России, чтобы отсюда
уйти европейцами или чтоб с иголочки одетыми
завернуть в кафэ Тауэнцин на пятичасовой чай с
танцами. Здесь достаются и билеты на пароход - в
Ленинград:
Здесь русский дух: здесь Русью пахнет!...
И - изумляешься, изредка слыша немецкую речь:
Как? Немцы? Что нужно им в "н а ш е м" городе?
Тауэнцинштрассе - широкая улица; посредине
стремительно пролетают трамваи, автобусы, и авто; у
великолепнейших магазинов рядами расселись безногие
и безрукие нищие, инвалиды кампании 1914 - 1918
годов, очень часто украшенные "железным крестом",
иль немецким "Георгием"; они протягивают свои
обрубки прохожим, по преимуществу русским, которых
речь пестрит именно русскими неологизмами вроде
"abgemacht", "abgeschlossen"; там - улица упирается
в шпиц Адмиралтейства, - нет, виноват: в шпиц
Gedдchniss-Kirche, мимо которой свершают прогулки,
встречаясь ежедневно - слева направо: философ
Бердяев; и справа налево Борис Константинович
Зайцев; мне помнится, - спросишь бывало: "А где
Яковенко, философ?" - "В Италии он". А на другой
день здесь именно, около Gedдchniss-Kirche
наткнешься на - Яковенко: "Как, вы? А говорят вы в
Италии"...- "Как видите, - здесь"... "Где
писательница Петровская? - "В Риме"... И - нет: вот
она; оказывается у Gedдchniss-Kirche; здесь
пробегают: Пильняк, Пастернак, Маяковский.- "Да,
нет же, - в России они!" Но позвольте: на
Тауэнцинштрассе я видывал Маяковского. Шпиц
замечательной церкви - скрещение времен и про-
30
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
странств: допотопное прошлое здесь перекрещено с
наступающим будущим; и Москва перекрещена - с
Прагой, с Парижем, с Софией. Шпиц церкви той -
пункт, от которого разбегаются радиусы расселения
русских в Берлине в окружности шарлоттенградской
действительности; один радиус - Курфюрстендамм;
другой радиус - Тауэнцинштрассе; третий радиус
Кантштрассе; четвертый радиус - и так далее; между
радиусами строится сеть серых улиц с однообразней-
шими домами; улица неотличима от улицы; дом от
дома; все дома достаточно монументальны, роскошны,
величественны; но все роскоши и величия этих домов
интерферируются в поле зрения в одну серую,
буросерую, нудную скуку организованного безумия, в
котором понять невозможно ни улицы, ни отдельных
домов, ни жильцов тех домов; и при этом особенность
берлинской теории перспективы: коли тебе ясно, что
надо налево идти, поворачивай смело направо; все
отчетливые представления о топографии в городе у
тебя суть обратные отображения действительности;
все вывернуто наизнанку со здравого смысла в
безумие и с такой педантичностью, что самая
организация порядка безумий здесь выглядит
педантизмом сухого и здравого смысла, спокойствием,
ясностью, внушающей полное доверие приезжающим;
таково уж свойство Берлина; в него попадая из
"явно-безумной" Советской России, сперва отдыхаешь
в покое вполне безобиднейшей ясности: все так
доступно, так трезво, понятно, цивилизованно,
организованно; и ты - доверяешься; вот побежал
господин в котелке и с портфелем под мышкой - куда?
Вероятно со службы - домой. Вот проходит изящно
одетая скромная дама: наверное, - тоже домой; вот
идет бледнолицый и томно взирающий юноша сдержанной
тихой походкой; на скверике девочка лет десяти с
красным бантиком
31
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
в волосах поджидает, наверно, подругу, чтоб с нею
затеять игру. Все - так ясно: как день!
И потом открывается: господин в котелке пре-
почтенного вида бежит не домой, а в плясульню со
службы, чтоб, бросив лакею портфель, отдаваться под
дикие негрские звуки томительному бостону и
замирать исступленно в бостон разрывающих паузах с
видом таким, будто он совершает богослужение; он
бежит - священнодействовать; после пойдет домой, к
Mittagessen... Безумие! Или бежит он в излюбленный
свой "Рatzenhofer", чтоб выпить одну только
кружечку пива, разрезавши пиво огромным количеством
"шнабсов"; к концу своей кружки начнет пропове-
дывать он не теорию служебного права, а - например,
правду Вед, приглашая Европу стать Индией: встретил
однажды в пивной я почтенного немца, который,
шатаясь, приплелся ко мне и заплетающимся языком
проповедывал мне философию Шри-Шанкара-Ачария: был
инженером он; встретил позднее его: он бежал очень
трезво по улицам, - сделавши вид, что меня не
заметил; с поверхности глаз отражалась обычная
видимость трезвости; а из-под взгляда высверкивало
безумие религиозного проповедника; и я сказал себе:
"Гм! Безумен и этот!".
И вот открывается после: изящно одетая дама, с
опущенным скромно лицом отправляется в... дом
свиданья: отдаться безумию извращеннейших
мерзостей; томно взирающий юноша, остановивший
внимание, "фокстротирует" (идет фокстротной
походкой) в... кафэ гомосексуалистов; в Берлине
открыто вполне функционируют несколько сот
гомосексуальных и лесбианских кафэ; а невинная
девочка с красненьким бантом - ужас: вот к ней
подошел старичек, прекорректно одетый, по виду
американец; она с ним уходит - куда? Опускаю глаза,
чтобы не броситься и не крик-
32
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
нуть: "О петля и яма тебе, буржуазный Содом!"
Организованное безумие, бред, фантастичность и
мерзость - во все это медленно начинает Берлин
распадаться под пристальным взглядом; все -
вывернуто наизнанку; и все сошло с места; в
великолепнейших ресторанах господствуют
негритянские барабаны; под звуки фокстрота
мордастые дикари-спекулянты всех стран пожирают
мороженное из ананасов; мелькают японские,
негритянские лица средь них; представители же
недавно высшей культуры, наследники Гёте, Нова-
лиса, Ницше и Штирнера - где?
Одно время любил заходить я в убогую, тусклую,
переполненную вечерами захожими пьяными маленькую
пивную; и - наблюдать, как в открытую дверь
забегают потрепанные хулиганы, чтоб опрокинуть пред
ночью последний коньяк; мне казалося все интересным
здесь; как кто выпивает, как шутит, как его
уговаривают не буянить; я скоро заметил: средь пока
случайных захожих одну постоянную группу; и стал
изучать я ее; вот - всегда полупьяный поляк; вот
потертого вида дородная дама; вот обер какого-то
ресторанчика (я потом повстречался с ним в Свине-
мюнде), вот вечно шатающийся, черноусенький чехо-
словак (выводили его очень часто насильно отсюда);
вот некто потертый и серый, с опухшими веками и в
проломленном котелке, - толстячек, именуемый
постоянными посетителями герр-директором; вот
красноносый, приятный, потертый мужчина, с преяс-
ными, грустными голубыми глазами; вот герр-портье
из соседнего дома; вот герр-полицист из участка,
играющий в карты с ослепшим владельцем пивной; а
вот фрейлейн Марихэн, его очень милая дочка, с утра
и до вечера разносящая пиво. Казалося мне:
посетителей этой пивной при всей разности их
общественного положения, занятий и возрастов
объединяет
33
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
какая-то тайна, в которой пересекается герр-
директор, потертый мужчина, потертая дама, ослепший
хозяин и пьяненький чехо-словак; эта тайна пивной -
привлекала меня; я ходил сюда; сиживал здесь
вечерами; потом мне открылась как будто искомая
тайна, роднящая всех посетителей этой пивной; всех
сюда приводило отнюдь не веселье; и не желание
просидеть безобиднейше вечерок; каждый с каждым
связался какой-то своею трагедией, глубочайшим
надрывом, паденьем в какую-то бездну; все - бывшие
люди, отпетые люди; все - братья в несчастии: все
здесь встречаются, чтобы, совместно допить свою
жизнь, доразбиться без уговора; и характерно: меня
привлекало сюда не одно любопытство, а тоже -
надрыв, переживавшийся одно время мучительно;
собрание этих людей оказалось судьбой установленным
братством несчастных; впоследствии перезнакомился
близко я с завсегдатаями пивной; и открылося:
тусклосеренький толстячек, герр-директор, -
утонченный смакователь "Единственного и его
достояния" Макса Штирнера; он был осведомлен (и -
весьма) в философии Шопенгауэра, Ницше; узнавши
однажды, что я люблю поэзию Эйхендорфа, снабдил он
меня тут же, с места, исчерпывающей библиографией
по Эйхендорфу; этот серенький герр-директор был в
духе своем анархистом; так, однажды, когда я
сказал, что такого-то политического деятеля надо бы
взорвать бомбой, воскликнул он радостно: "Dann
kommt Bum-Bum"; и "Bum-Bum" в установившемся между
нами жаргоне стало символом разрушения старого
мира; не раз с герр-директором действительность
современной Германии мы взрывали; и устанавливали:
неизбежность германского Октября в близком будущем;
герр-директор, когда-то воспитанный на вершинах
германской традиционной культуры, стал относительно
этой культуры теперь чело-
34
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
веком бывшим, отпетым; явлением умственного люмпен-
пролетариата современной Германии; в будущем он,
конечно, появится неожиданно в революционной волне
- с громкой бомбой в руке, чтобы сделать "Bum-Вum"
над уже обреченной Европой.
Другой посетитель пивной оказался утонченным
музыкантом, поклонником Шумана, бывшим приятелем
почившего Лилиенкрона (поэта); с ним очень сошлись
мы; а сын его, юноша лет семнадцати, оказался
поклонником Советской России; он рвался в Советскую
Россию; он ждал революции; потертого вида дородная
дама (я счел эту даму ошибочно экс-проституткой
сперва) оказалась художницей, некогда постоянною
посетительницею мюнхенского кабарэ
"Simplicissimus", где и я когда-то бывал ежедневно,
встречался с Пшибышевским, с поэтом Людвигом
Шарфом, с Мюзамом (членом советско-баварского
правительства) и с Ведекиндом; оказывается, с этой
дамой встречались мы в "Simplicissimus" еще в 1906
году.
Сама дочка слепого хозяина оказалась чуткою с
художественною натурою, изучающей в свободные от
работы минуты французский язык, литературу, поэзию,
музыку; я ей дал почитать перевод моего
"Петербурга", и никогда не забуду я тонкой оценки
его от - кого? От служительницы бедной пивной!
Здесь-то, в скромной пивной, среди пьяниц, почти
отщепенцев, почти подозрительных личностей мне
возникли наследники бывшей великой культуры; они
оказались упавшими из "бэль-этажа" берлинской
цивилизации - в подвал жизни; а в "бэль-этэже", в
курфюрстендаммных кафэ, водворилися "негры"
культуры, осыпанные бриллиантами; да, о поэзии
Эйхендорфа не говорилось здесь; и руки здесь не
протягивались за бомбами, чтобы учинить
громозвучный "Bum-Bum"! Говорилось о долларах, о
падении марки.
35
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
И было все - "Кюрфюрстендаммно и скучно"; я не
забуду, как в этих злачных культурных местах
говорил меньшевик, оправляя изящнейший галстук,
потягивая "шерри-коблер" из малой соломинки: "А вы
все пропадаете в вашей странной пивной - не
понимаю: какая охота сидеть в закоптелом, унылейшем
помещении среди пьяниц?" И я тут подумал: "Голубчик
мой, мы никогда не сойдемся: вот ты называешь себя
социал-демократом, ты нанимаешь автомобили и
совершаешь передвижения при помощи аэропланов". А
мы с герр-директором, поклонником Штирнера,
Эйхендорфа и Ницше, которых, наверное, ты не
прочтешь никогда, перешептываемся о том, как не
мешало бы и тебе за-одно с буржуазной компанией
учинить очень громкий "Bum-Bum".
Да - вывернулся наизнанку Берлин: и верха
утонченной культуры ютятся в сомнительных, грязных
низах одураченной, сумасшедшей, проплеванной жизни;
низы же культуры нахальнейше задраны; и сидят в
ресторанах, порхают в авто, осыпают себя
бриллиантами.
И Берлин - организованный, систематически в жизнь
проводимый кошмар, принимаемый под невинной формою
обыденного, здравого (буржуазного) смысла: тот
смысл есть бессмыслица.
Никакою бессмыслицею не удивите вы современного
среднего немца; я часто впоследствии думал,
пересекая Курфюрстендамм: "Что бы сделать такое
мне, чтоб удивить?" И себе признавался я: удивить
невозможно берлинца; ну стал бы, положим, я - вверх
ногами; прохожие лишь слегка отметили бы мое
стояние вверх ногами; не останавливаясь, не
оборачиваясь, - пробегали бы мимо они, мимолетно
подумав: "Наверно реклама". Ну стал бы, положим,
кричать, что я "верую в кошку серую"; не удивился
никто бы; и
35
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
думали бы: "вероятно - сектант: может быть,
дадаист". Если бы я пожелал откровенно возлечь
посреди наполненного людьми тротуара, - подумали бы:
"Пьяный". Явился бы полицейский: меня усадили бы в
"авто"; и, узнавши мой адрес (по паспорту),
преспокойно бы отвезли к назначению, сдали бы
портье, тот - хозяйке: и я очутился бы в своей
собственной мягкой постели; хозяйка бы улыбалась
лукаво: "Getrunken, - macht nichts"! Так, чем более
медитировал я над проблемою удивить чем-нибудь
коренного берлинца, тем более делалось ясным:
пределы всех дикостей превзойдены обыденною,
"трезвою" жизнью Берлина; под "трезвою" же жизнью по
методу всех берлинских контрастов нам надо
подставить обратный смысл: и разуметь - вовсе пьяную
жизнь. В этой жизни пересекаются в буржуазном
Берлине и русский, и немец шарлоттенградского округа
- в какой-нибудь русско-немецкой кофейне, иль
"Дилэ", где немцы пьют "W о d k а" и жгучий ликер
под названием "N a t a s с h a", и где прислуживают
русские офицеры, где ночью естественно заключаются
союзы Эмигрантской России с Германией в вопросе о
поддерживании друг друга при очень рискованном
возвращении домой, ибо и русских и немцев вполне
одинаково озабочивает великий Коперник, показывающий
русским и немцам в сей час ночной опыт - вращенья
земли под ногами. Знакомый один мне рассказывал:
"Знаете, множество раз напивался я до бесспорного
перерыва сознания в неизвестном, ночном ресторане,
куда заходил я один и - просыпался в постели своей".
- "Как же вы попадали домой?" - "Говоря откровенно,
не знаю: однажды лишь у себя в портмонэ я нашел
преизящную визитную карточку мне неизвестного
немецкого лейтенанта, меня уверявшего в дружеских
чувствах; и - с указанием, что он именно и доставил
домой меня". Тут
37
|
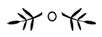
|
|
|
 |

