 |
|
|
|
 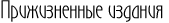
<<< Предыдущий блок :: Информация о книге
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
утонченных мулаток, мулатов; в одном углу громыхает
"джазбанд"; "джазбандист" же выкрикивает под "бум-
бум" "дадаизированные" скабрезности; тогда молодые
люди встают; и со строгими; исступленными лицами,
сцепившись с девицами, начинают - о нет, не
вертеться - а угловато, ритмически поворачиваться и
ходить, не произнося ни одного слова; музыка -
оборвалась; и все с той же серьезностью занимают
места; в промежутках между "Фокстротами", "Джимми"
и "танго"; на маленьком пространстве между столиков
появляется оголенная танцовщнца-босоножка; так
продолжается много часов под-ряд; так пляшут в
энном количестве мест, в полусумеречных,
тропических, маленьких "дилэ"; так пляшут
одновременно в энном количестве кафэ; градация
бесконечно разнообразных плясулен - маленьких,
огромных, средних, приличных, полуприличных, вполне
неприличных - развертывается перед изумленным
взором современного обозревателя ночной жизни
Берлина: вплоть до огромных, битком набитых
народных плясулен, все пляшут в Берлине: от
миллиардеров до рабочих, от семидесятилетних
стариков и старух до семилетних младенцев, от
миллиардеров до нищих бродяг, от принцесс крови до
проституток; вернее, не пляшут: священнейше ходят,
через душу свою пропуская дичайшие негритянские
ритмы: область распространения "канкана" в Европе
расширилась; половина буржуазного Берлина с
пятичасового чая и до закрытия ресторанов -
"Канкан", негрский город.
В моменты закрытия ресторанов по улицам мрачного,
буро-серого города валят толпы Фокстротопоклон-
ников, Фокстротопоклонниц; и медленно растворяются
в полуосвещенных улицах Берлина; и делается на
сердце уныло и жутко; тогда из складок теней
начинает мелькать по Берлину таинственный теневой
чело-
59
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
вечек, с котелком, точно приросшим к голове,
придающим последней какую-то звероподобную Форму;
вам кажется, что это тот самый песьеголовый
человек, который встречает вас на древних Фресках
Египта; там он неизменно сопровождал усопшего в
царство теней, на страшный суд к Озирису; тут он,
схватив вас под руку, обдает вас коньячными
испарениями рта и выхрипывает вам в ухо: "Я отведу
вас в "Nachtlocal". "Nachtlocal" - ночные
плясульни, ежедневно меняющие свои места и
преследуемые полицией; если вы последуете за
песьеголым человеком, - перед вами откроется
градация ночного Берлина: полуприличных и
неприличных плясулен, игорных притонов, вплоть до
курилен опиума; в этот же час рыскают по трущобам
Берлина автомобили, наполненные полицейскими; они
отыскивают ночные притоны и отправляют там
пойманных посетителей в "Р о l i e z e i p r д s i
e d i u u".
"Песьеголовый" человечек - красноречивое явление
умирающей части Берлина; "песьеголовым" некогда
рисовался негр; этот "негр" - "негр" Берлина,
"негр" "новой" Европы; верней - образ смерти ее,
ее рок.
Скоро всюду в Берлине вам вскроется "негр";
"негр" пробрался с высот дадаизированной культуры в
мелкобуржуазную среду берлинских лавочников, хозяек
сдаваемых комнат, содержателей пивных, кельнеров,
которых здесь армии (из кельнеров коФеен,
обслуживающих одну маленькую "Victoria-Luisen
Platz", составилась бы по меньшей мере добрая
полурота) и т.д.; здесь - ритмы Фокстрота; и здесь
- кокаин; и здесь - сладострастное ожидание
реванша, заставляющее с надеждою обращать внимание
"Sowjetruss-land", на красную армию; и эти надежды
одновременно переплетаются со страхом перед
большевистской опасностью.
60
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
вас прямо обиден; сорвите вы маску с этой слащавой
любезности, и вы услышите рычание дикаря; я однажды
зашел покупать папиросы в пивную; сидел там
противный и пьяный солдат; увидев .меня, - зарычал
он: "Вы, видно, высоковалютный иностранец". -
"Напрасно вы думаете, - отвечал я ему, - я
русский). "А, - обрадовался он случаю сорвать на
мне его душащую злость, - мы вас разбили,
поколотили!" "Дело не в том, кто кого колотил, -
ему возразил я, - а в том, что и русские, и немцы
суть одинаково люди". И тут я услышал воистину
великолепный ответ: "Мы не люди, мы - немцы".
Но разве вся нынешняя буржуазная Франция не
кричит всему миру своими поступками: "Мы не люди:
Французы мы". Это дикое животное в человеке себя
распоясало; это умопостигаемый "негр", с войною
вошедший в Европу, поставивший всюду рогатки и
требующий визы и удостоверения чуть ли не при
каждом переезде из города в город; но "негр"
распространяется и по Германии, заявляя, что он не
человек, а "животное"; ритмы Фокстротов, экзотика,
дадаизм, трынтравизм и все прочие эстетико-
философские явления отживающей культуры Европы лишь
зори пожара обвала Европы, лишь шелест того, что в
ближайших шагах выявит себя ревом животного.
"Варварский Дионис" поднимает уже свой топор
каннибала из-под разорванного покрова буржуазной
Европы; он охватывает не только Париж; он - в
Берлине; его присутствие изменяет самую воздушную
атмосферу Берлина; я не был в Берлине 7 лет, и за
эти семь лет буржуазный Берлин побурел, стал
"мулатом"; оползни вершин жизни культуры под
действием вулканических сил завалили низины
мещанства; и для того, чтобы пробиться к подлинно
новым, живым струям жизни, надо спуститься куда-
то:
62
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
пройти сквозь облокочный пласт; и оказаться у самых
истоков революционной энергии.
Целый ряд месяцев прожил я в буржуазнейшем
квартале Берлина; к весне я почувствовал, что более
я не могу выносить этой жизни, беспомощно
скатывающейся ко дну, но с такою убийственной
медленностью, что было бы благодеянием для жизни
Берлина, если бы в один прекрасный день здания
вдруг обвалились бы, разрушился бы водопровод,
электричество бы погасло, и жители поняли бы,
наконец, что смерть наступила (революция в этом
квартале ведь невозможна). Невозможно жить в
атмосфере всеобщего разложения, средь хвостов,
растущих, как Фараоновы змеи, при меняльных лавках,
среди бубнящих звуков Фокстрота с аккомпаниментом к
нему в виде припева: "Der dollar steht hoch!"
Я бежал из Берлина и поселился в предместьи
сонного городишки Цоссена, сняв себе комнату в
бедном домике, населяемом наборщиками цоссенновской
типографии. И тут я впервые увидел, чем немцы
питаются, - не те немцы, которые заседают в кафэ
КурФюрстендамма и заключают союз с русскими на
почве Коперниканской теории круговращения земли, -
нет: с иными я встретился немцами; с теми, которые
с несокрушимой энергией месяцами, годами работают с
утра до вечера, питаясь двумя картошками и ломтиком
серого хлеба, слегка смазанного противной замазкою,
называемой маслом. Тут я увидел другую Германию,
живую и бодрую, но полную неукротимой ненависти к
"Берлину", в котором я месяцами жил; тот Берлин -
не Германия, а - секция черного интернационала
Европы; "Помилуйте, - говорили рабочие мне, - весь
вопрос о репарации с патриотическою шумихой есть
вздор; наши враги не Французы, а Стиннес с К°,
которая бы давно могла заплатить репарацию,
63
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
но предпочитает хранить свои деньги в Лондонских
банках". - "Слышали мы о хваленых иностранцах,
приезжающих в Германию для того, чтобы выпивать ее
последнюю кровь; все это патриотические крокодиловы
слезы, проливаемые действительными "иностранцами";
и эти "иностранцы" - наши немецкие капиталисты,
спекулирующие на народном бедствии". Так заявил мне
другой рабочий, с которым я провел долгие вечера в
маленькой пивной в день похорон Ратенау; настроение
в те дни было до крайности возбужденное; и рабочие
высказывались откровеннее, чем всегда.
С той поры я потерял охоту к пышным кафе, куда
собираются интернациональные спекулянты и
Фокстротопоклонники; я отыскивал бедные уголки, где
собирались рабочие; много вечеров просидел я в
компании немецких рабочих, солдат и матросов (уже
впоследствии, в Свинемюнде); в этой среде у меня
образовались самые разнообразные друзья (были
друзья и между контрабандистами); здесь я
наталкивался часто на проявление живой мысли и
подлинного революционного темперамента: но, должен
заметить: необычайная выносливость немцев,
некоторая большая буржуазность в их жизни, в их
навыках, замедляет процесс полевения масс. И все-
таки, опыт беседы с рабочими и матросами в период
1922 - 23 годов мне указывает на разительный рост
революционного настроения за этот период.
Но это - тема огромной статьи, не вмещаемой в
пространство малого очерка, схватывающего лишь
внешний облик одного из центров современной Европы.
Моя задача зарисовать здесь лишь "царство теней", а
не царство будущего, медленно выпирающее на
поверхность под действием вулканических сил
революции, уже явственно ощутимой в Берлине к
моменту моего отъезда из него (в октябре 23 года).
64
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
МОСКВА И БЕРЛИН.
Несколько месяцев, как вступил на московскую
почву я, кровный москвич, здесь проведший почти что
всю жизнь, здесь проделавший путь революции,
видевший образы послереволюционной разрухи; да, я
никогда еще не был так ярко наполнен Москвою, как
ныне.
Бывали периоды, - я не живал в Москве годы; и я
возвращался - к друзьям, не к Москве; таковой у
меня и не было; не замечал ее я, и какой ее покидал
я - такой возвращалась она мне, минуя почти поле
зрения и образуя естественный, неизменяемый фон
встреч с людьми; не менялась разительно: теми же
улицами циркулировали те же люди; мое предпоследнее
расставание с Москвой обнимало года с 1912 по
1916гг.; я покинул реакцию довоенного времени, а
вернулся в те дни, когда все излучало энергию
накопления революции, но Москва оставалась Москвою:
разительной встречи с ней не было.
Ныне покинул Москву в октябре 1921 г.; труднейшее
время уже изживалось; два года провел я в Германии;
вернулся в Москву ли? Она изменилася, встречи с
друзьями - большая мне радость; но большая -
встреча с Москвой, с ее ликом, особым, слагавшимся
в революционные годы, но ныне лишь явленным ярко.
Напрашиваются параллели: с Москвой прошлых лет; и
- с Берлином; Берлин и Москва революцию видели;
кризисом прошлого должен был чужестранцев встречать
многошумный Берлин; но, попавши в Берлин, я увидел
все тот же Берлин; Берлин прошлый; трамваи там
бегали так же; и так же гремел под землей Unter-
grund; и выплевывал суетливые толпы опрятно оде-
65
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
тых дельцов в котелках и с портфелями; те же
магазины сияли на прежних местах: и Вертгеймы и
Тицы; и Leipzigerplatz суетилась все той же волною
людскою; над ней поднимал свою белую палочку
полицейский, как прежде (в иной только Форме); и -
те же костюмы (немного скромнее, чем прежде), и те
же огни (их поменьше), и лица такие же (разве
бледней, озабоченней), и чистота (чуть грязней все
же стало в сравнении с прежним); как будто бы
старый Берлин; и как будто бы не было здесь
революции; после расхлябанной и зияющей пустырями
Москвы - вид культурный, приятный и легкий;
хотелось первые дни восхищаться порядком,
опрятностью и легкомыслием жизни, просиживать
вечерами в каФе и под звуки "джазбанда"(7)
бессмысленно созерцать прохождение танцующих пар
ритмом джимми, бостона, Фокстрота и танго.
Благополучный Берлин мне казался контрастом
московского неблагополучия лиц и улиц, свой вид
изменивших, являя все тех же людей, те же Формы,
каФе, очень ведомые по прошлым приездам.
Но с первого месяца понял я: все это - то, да не
то; старый быт опрокинут, разбит, но разбит не по-
нашему; он сохранился как внешность, но он разбит в
немце; и часто с разбитием уклада того в самом
немце, разбит средний немец в какой-то централь-
нейшей точке жизни, откуда творил он когда-то на
удивление мира культуру свою; той культуры в нем
нет уже; повисает на нем, как последняя им
донашиваемая одежда, которую пора сбросить, которую
он не решается сбросить; уверенность современного
немца не в нем, а в покрое костюма, в который зашит
он; из-под покроя просунулись хаос растерянности,
недо-
(7)Особый инструмент, являющий собой набор барабанов,
дощечек, звонков и т.п.
66
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
уменье, испуг и незнанье, что делать с собою; вид
города - тоже покрой; под покроем смятение,
заставляющее скосить око на Керзонов "Англия-де не
допустит" (она - допустила) другим устремиться к
востоку: "Russland поможет... Die rote Armee". Но с
надеждой на rote Armee современный берлинский
делец, пересекающий Leipzigerstrasse с портфелем, с
сигарой во рту, - соединяет бессмысленные мечтания
о реванше, не изжитые, увы: он не знает и сам, чего
хочет; не выстрадал новых он творческих дум, не
терял он всего, чтобы все приобресть по-иному, как
русский, разгуливавший по разгромленным тротуарам
Москвы, почти в рубище, без покроя, почти без
покровов, но с крепкой душой, закаленной
страданьем, с надеждой взирающей на всходящую
жизнь. Революция здесь совершилась. В Берлине, -
была ли она?
Характернейший штрих: мне рассказывали, что во
время обстрелов берлинских кварталов обстреливающие
и обстреливаемые старательно обходили газоны:
ходить по газонам - "verboten"; "verboten", - вот
то, что висит над душою Берлина: "verboten"
касается нового творчества жизни и мира сознанья:
дорожки, проспекты, костюмы и вывески - в полной
сохранности: старой дорожкой проходит берлинский
делец, заправляющий жизнью; и революция не
всколыхнула его; революцию принял он, как удобное
перемещение позиций, из тактики, - не из души;
оттого-то он медленно гибнет теперь; оттого-то с
ним гибнет Берлин.
Да, берлинец, вершащий когда-то судьбы своей
нации, гибнет голодною смертью под старым покроем;
да, то, с чем в Советской России покончено одним
духом, стремительно, бесповоротно, - неукоснительно
вводит гибель в Берлин; в самом воздухе города
носится смерть; и порою хотелось воскликнуть:
"Скорее, скорей бы!" Казалось: пристойный вид
города -
67
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
внешнее выражение столбняка, переходящего в смерть
без трагедии и в разложенье без подвига.
В жизни недавней Москвы был толчок, от которого
повалилися здания; но и - выперли новые недра
системой хребтов; изменился рельеФ жизни города;
жизнь не угасла: Берлин же без всякого изменения
рельеФа, нетронутый, в представлении моем опускался
года в сумрак Тартара; часто казалось, что полные
людом берлинские улицы, - улицы Тартара; жизнь
теневая там; блеск электричества - Фосфоресценция
разложенья. Москва из Берлина казалась
всклокоченным, разворошенным городом, пережившим
огромную встряску рождения новых критериев; а под
пристойным покровом непотрясенного взрывом Берлина
мне месяцами ощущалася перманентная еле заметная
дрожь, заставляющая месяцами берлинца мучительно
вздрагивать в ожиданьи решительного удара; томление
грозовое без разрешенья - ужасно в Берлине; то -
лейтмотив города, явно звучащий и заглушаемый
звуками бесконечных томбол; о, нет, лучше
свалиться, чтобы умереть, иль воскреснуть вполне
обновленным, чем годы без жара и бреда захиревать в
бледной немочи, все же в итоге ведущей к могиле; и
эта могила Берлина - боязнь потрясенья сознания,
быта, Форм жизни, и - да: обыватель Москвы плюхнул
сразу на дно; Это дно оказалось трамплином прыжка к
достигаемым строимым Формам сознания, быта и жизни;
берлинец организованно, в месяцах, соблюдая все
внешние Формы, садился на дно; и так медленно, что
казалось: когда, наконец, он усядется, то он
воссядет на дне этом прочно. Те мысли меня посещали
два года; в благообразии города видел я
организованный спуск - прямо в Тартар;
цивилизованный вид Берлина стал тошен; я понял:
сиденье в кафе, увлеченье Фокстротом,
насильственное опьянение Достоевским, "Natascha"
68
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
и шнапсами - есть уход от себя и от нормы; иные
берлинцы себе прививают безумие пошлое, мелкое,
чтобы не глядеть в подступающее безумие
революционной грозы. Под приличною старою Формой
Берлина стал чуяться мне дикий хаос действительного
разложения и смерти; и в запахе тления я задыхался;
тоска и отчаянье - не личное, не мое - охватило
меня; Берлин - влит в мою душу, ко мне
присосавшись, как спрут; из него я бежал.
И вот - первое впечатленье от Советской России...
Граница: художественная продуманная Форма солдат
пограничных, их выправка, несуетливый порядок в
свершеньи Формальностей; все импонировало,
интересовало, казалося новым; вот - Себеж; и -
объясненье с чинами из Г.П.У., отказывающимися
просмотреть мои книги по списку: "Отправьте их в
таможню: здесь же нам некогда". Спутанные, но
вполне добродушные предложения мне таможенных
чиновников: "Вы поступите - вот так-то. - "Нет,
так-то..." И спор между ними по этому поводу.
"Слушайте, товарищи, тут мне дали четыре различных
совета: которому ж следовать?" Был я немного
смущен, но мне было не грустно, а весело;
чувствовалась под ногами какая-то твердая почва; и
мы - перешучивались, что, мол, вот: неизвестно, что
делать.
Поехали: станции; и - босоногие люди на станциях;
многие в чорт знает что облекали тела свои; после
Берлина та дикая пестрость порой очень ветхих одежд
поражала меня; это - все, точно нищие; но какое-то
странное выражение лиц, выражение глаз по сравнению
с берлинской, прилизанной публикой; там выражение
хмурой работы в бегающих тускловатых, растерянных
глазках, всеобщее унылое выражение, не допускающее
появление Фигур; здесь, на станциях, - за Фигурой
фигура; здесь все - индивидуумы; там
69
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
Глаза - неживые; здесь острость, пронзительность и
осмысленность взора, определенная уверенность в
поступи; ноги, порою босые, спокойно внедряются в
дождиком размываемую глину; вот этот вот, в ветхой
одежде, в потертой, оборванной малой шапчонке
спокойно, уверенно входит, спокойно садится за стол
рядом с "избранной", разодетою, заграничного
публикой, не обращая внимания на нее, очень твердо,
уверенно требует стакан чая, и, наклонившись ко
мне, преспокойно, с достоинством прикуривает от
моей папиросы; в глазах - та же осмысленность; и
ощущается обладатель чего-то такого, чего не
хватает берлинцу; тот - выбрит, культурно одет (в
котелке и с сигарой во рту), а в лице
неуверенность: помесь злости и робости по отношению
ко мне, иностранцу; меня он боится в стране у себя;
и оттого-то, боясь, ненавидит; а этот молодчик в
опорках, спокойно сидящий со мной, иностранцем по
виду, за столиком, - нет, не боится меня; и оттого-
то без всякой предвзятости вступит со мной в
разговор он; да, этого не опрокинут толчки и удары
судьбы, пред которой робеет берлинец; хоть двадцать
толчков, - этот серый крестьянин, с таким
независимым видом идущий к вагону, их вынесет: все-
таки сядет в вагон и доедет до места, куда взял
билет; там проделает что-то; и снова вернется к
себе - во-свояси...
На остановке мой спутник дорожный вытаскивает
аппарат, собирался снять меня; к нам подходит
дежурный солдат, предупреждая нас вежливо: "В
поезде запрещаются снимки"... "Послушайте, я
снимаю не местность; позвольте наставить мне
аппарат, - вот сюда"... "Ну, уж ладно:
снимайте"... Меж нами завязывается разговор: и
солдат, очевидно, играющий роль былого жандарма,
осмысленно и с живым интересом расспрашивает про
Берлин: "Ну, как там?
70
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
Революция будет?" Мы разговариваемся... Звонок: мы
прощаемся. У солдата все та же уверенность; и все
те же живые глаза; я в Берлине не видел их.
Гордые, крепкие, свежие лица: живые глаза.
И в Москве - то же самое.
Я все первые дни по приезде в Москву проводил на
московских, совсем не блистающих чистотой
тротуарах, кой-где исковыренных и кой-где
починенных, впивая глазами в себя москвичей;
ощущение бодрости, твердой почвы, уверенности - и
движений, и поз, контрастирующих с неказистой порою
одеждой (опять по сравнению с Берлином);
уверенность появилась теперь: в 21 году ее не было;
и перепуганный взгляд исподлобья пропал; всюду
взоры - прямые, открытые: головы как-то закидывать
стали: не гнут их; пропала угрюмость и пустота
серых улиц; они - переполнены; и они - так пестры
от цветных новых вывесок и от продуктов, глядящих
из окон; пропала унылого серого цвета шинель; и -
кипящее, суетливое пробегание, промелькание
пролеток, Фырчанье авто; да, такого движения не
было в годы войны, до войны; поредела и серого
цвета шинель в пестроте азиатской одежды; ее
заменила опрятная и художественно-изящная Форма
красноармейца; приглядываясь, отмечаешь: как много
достигнуто в смысле опрятности и порядка; в
трамваях - порядок, конечно же, больший, чем в
сером Берлине; вокзалы - чисты: чистотою своею
поражают каФе и пивные; не видно огромных, в
Берлине обычных, хвостов перед лавками.
Уверенность и присутствие твердой почвы - вот
первое впечатление от Москвы; этой почвы в Берлине
нет вовсе: царит неуверенность; темп разговоров
московских на улице - быстрый; и меткое, четкое
слово отрывисто пересекает пространство по всем
направлениям; в Берлине слова, выражения, при-
71
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
баутки - пошлы, обыденны, всеобщи, неубедительны,
стары; в Москве речь - ядреная, индивидуальная,
брызжащая умом и здоровьем; московская улица много
умнее берлинской.
Вот - я на Арбате: два года назад он был грязен,
запущен, серея облупленными степами без вывесок:
ныне - ряд вывесок новых; в Берлине все вывески
старые, за исключением новых русских (аптека
"Феррейн", на Mezstrasse, а вот ресторан "Оливье",
русский - там же); Москва изжила уже два облика
улиц, хотя бы Арбат; был когда-то он вывесками
сияющей улицей; после лупились без вывесок стены
его; теперь вновь: ряды вывесок; новые - все: где
под черною с золотом вывеской богател Шафоростова
колониальный магазин, синеет огромною вывескою
"Цекубу"; где ютился Горшков, там - пивная:
перемещенья повсюду; кой-где лишь знакомые имена:
"Оптик Громов" иль "Брабец".
Сдвиг был: он сломал все устои, сорвал он
безжалостно старые вывески, глыбами нагромоздив их
стремительно, бесповоротно, чтобы из хаоса этих
развалин вновь выявить вывески, оповещающие о
восстании новой жизни; так зелень весенняя после
грозы выпирает: метаморфозы такой нет в Берлине; и
- да: динамизм ему чужд; он - статичен; поэтому -
рухнет он; жизнь меж берлинских домов, - это жизнь
под лавиной, которая все же когда-то сорвется; а
жизнь Москвы - таяние уже когда-то упавшей лавины,
явление внешней жизни под ней; этим веянием
бессознательно живы; и ходят - уверенно, бодро,
самостоятельно, критикуя, оспаривая друг друга, не
видя наглядно огромного достижения работы, здесь
бывшей; и все ж испаряя уверенность в линии
восходящей; не ходят - куда-то восходят в Москве; а
берлинец совсем не восходит, не ходит, - нисходит;
и нисхо-
72
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
ждение это (подумайте - миллионов), переполняет
Берлин атмосферою царства теней и подземными,
душными, ядовитыми газами.
И то же подметил я в сфере утонченных интересов
культуры: какое обилье кружков! Так, едва я попал
сюда, как со всех сторон слышу: "Сюда собираются
молодые ученые заниматься лингвистикой"... "Там
изучают проблемы культуры"... "Вот этот вот
собирает огромнейший материал по истории
гностицизма"... "А тот написал биографию ФилосоФа
Соловьева"... Очень много в Берлине писалось про
НЭП; им пугали меня; о кружках, изучающих
литературу, культуру, признаться, я что-то не
слышал; о них в эмигрантской печати не пишут, - не
потому ли, что русский - Берлин так убийственно
беден; да, там собираются - играть в карты, или
просиживать вечера совершенно беспочвенно в мутных,
душных каФе; там работа клеится в вялом, унылом,
неврастеническом воздухе вялого города, обреченного
медленно опускаться на дно.
Мое первое впечатлений от Москвы - впечатление
источника жизни; и первый глоток этой жизни есть
радость себя ощущать не в унылом, чужом, упадающем
городе, а в кипящей, творящей, немного нелепой и
пестрой сумятице, чувствуя, что сумятица -
творческая лаборатория будущих, может быть, в мире
невиданных Форм.
Март 1924 года. Москва.
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
ОГЛАВЛЕНИЕ.
Стр.
Одна из обителей царства теней 3
О том, как "некто" попал в Берлин 11
О "негре" в Европе 39
|
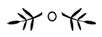
|
|
|
 |

