 |
|
|
|
 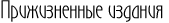
<<< Предыдущий блок :: Следующий блок >>>
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
фоне облупленной каменной серой стены, за которой пузатые
и сизоносые лавочники в окна тыкали пальцами с "русский"
(эльзасец по происхождению он), - в том же бахромчатом
пледике он набивал "капораль"; и - мне жаловался:
- "Мне в Россию бы: я здесь - чужой же!"
Бывало, склоняя медвежий свой корпус над узником,
перетирал он ладонями; ходил на цыпочках, шмякая туфлей,
- лукавый, довольный, вытягивая кругловатую голову с
серой щетиной: бобриком. Дергались его уши.
А вы - в сине-серой "тюрьме" уже: засажены за работу;
для чего-то ему переводите из Ламартина; редакция первая,
третья, четвертая, пятая; все - им отвергнуто;
пятиминутный заход ваш превратился в пятичасовое сидение
над переводом; уже два часа ночи, - о, господи! - Вдруг
пение из "Зимнего странствия"; это - Мари: вы -
заслушались: в третьем часу вы, восторженный пением,
влюбленный в своего мучителя, вас отпускающего за седьмую
версию им редактируемого перевода, тащитесь: ужинать
жалким остатком вчерашнего пира (весь заработок за
концерт ушел: в ужин).
Ко всем был протянут он: за всеми нами следил; посещал
наши лекции; силился вникнуть: кто-в чем; привлечь в свой
"Дом", дать возможность испробовать свои силы. А - не
выходило: он - не понимал нас; и не понимали, зачем
пристает, и за что он так мучает нас.
Он имел исключительный дар: приневолив к
сотрудничеству, садить в лужу друзей и собственный "Дом
песни", набитый друзьями; имел он способность устраивать
неприятности: непроизвольно, конечно; коли мозоль давит
ногу, прыжком подлетает с пакетом: скорее, сию же минуту,
бегите - к тому-то; и видя, что вы захромали, смеется
усами; и дергает бровь к Тарасевичу:
- "Вы посмотрите, Леон!"
И "Леон" - машинально:
- "Лимон" - из-за шахмат: с Мюратом.
Мы все, начиная с Рачинского, переводившего с ловкостью
и с трудолюбием тексты программ, - в побегушках, сгибаяся
под гениальнейшими парадоксами, преподаваемыми с такой
точностью, как исчисление математических функций;
профессор Л. А. Тарасевич - еще, как посыльный: "Леон, -
постарайтесь... Леон - это сделает". Анна Васильевна, его
жена, - ученица Олениной, а потом и деятельная
сотрудница; Лютер, теперь заслуженный немецкий профессор
- "Се Luther - хаха!" Бывший директор же консерватории,
С. И. Танеев, друг П. И. Чайковского и Рубинштейна,
писавший свой труд, прогремевший в Европе, единственный,
- по
395
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
пулями, дико болея за участь восставших районов, таская
под пули своих обожаемых "ньесс(1).
А позднее не раз из-под "рыцарской" маски - "товарищ"
вставал: помню, - предупреждал меня: "Этот Д., вас
зовущий ему оппонировать, - агент охранки". И - "заезжий
француз" рыскал всюду и сведения собирал, чтобы Д.
уличить.
Ко мне он являлся в минуту, когда материально страдал
я; шипел, шумел, исходя демонстрациями, - неумелыми,
жаркими.
В необходимости выудить тысячу для дописанья романа и
чтобы А. А. могла кончить гравюрный класс в Брюсселе, я
изнемог (это было в 1912).
- "Как, как?"
- "Достал".
- "Сколько?" - он оскаблялся, не то огрызался; и
дергались уши, прижатые к черепу.
- "Тысячу; только - в рассрочку: по двести рублей, в счет
написанной книги..."
- "Как, как?" - дико пырскала тень "Мефистофеля",
крыльями пледа на синих обоях: в месяц - вам двести?
Двоим? Стол, квартира, - я Брюссель-то знаю, пожалуй, и
хватит, но - без табаку и концертов. О, сосчитали! Табак
и концерт - позабыл!"
И вдруг он, подставивши спину, затрясся, как серая
ведьма:
- "Мэ, мэ - экутэ, Леон"(2), - крысясь, с поклоном к
профессору Л. А. Тарасевичу; и хватая за руку, прилипнул
к лицу моему своей серо-бледной, уставшей, моргавшей
щекой:
- "Обязуюсь, что тысячу - вам достану: но - с условием:
вы приглашаете X... и У... с вами отужинать", - перетирал
руки он, став на цыпочки; и вдруг под локоть:
- "В "Славянском базаре".
И шмякал вокруг:
- "Вы тогда обратитесь ко мне; я сумею вам ужин такой
заказать, с виду скромный, чтоб с чаем ровнехонько стоил
он - тысячу; вы - угощаете; вы - расточаете X.
комплименты; вам счет подают; вы - небрежно бросаете
перед носами их, - и представлял, как бросаю я тысячу, -
мэ, савэ ву, даже не поглядев на бумажку, рассказывая
анекдот: я придумаю... Бросите тысячу, - я достану, -
которую они пять месяцев будут выплачивать вам: на
прожитие, но - без табаку... А? Скажите: заботятся об
экономии вашей!"
(1)Племянниц:
(2)Но слушайте, Леон.
402
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
п р а в о н а о с т о р о ж н о с т ь... В е д ь м ы
о д н и и з п е р в ы х и н д и в и д у а л и с т о в
с т а л и с о з н а в а т ь у з о с т ь и н д и в и д
у а л и з м а"(1).
Под узостью индивидуализма я разумел в 1905 году
"персонализм", который казался мне суррогатом
индивидуализма; под "индивидуализмом" же разумел я нечто,
отличное от личности; индивидуальное "я" виделось мне в
те дни комплексом переживаний, подобным комплексу людей в
общине; но к идеям Кропоткина я был враждебен; и я писал
в 1906 году, что теоретики анархизма, подобно Кропоткину,
"о б е з о р у ж и в а ю т с е б я п е р е д с о ц и а
л-д е м о к р а т и е й, о т н о ш е н и е к с о ц и а
л-д е м о к р а т и и б р о с а е т с о в р е м е н н ы
х а н а р х и с т о в в о б ъ я т и я б у рж у а"(2).
Я стараюсь отмежеваться от персонализма, от новой
соборности, выдвинутой мистическим анархизмом, от
анархизма Кропоткина, от государственности: "Г о р ь к и
м о п ы т о м м ы у б е д и л и с ь в п у с т о т е
п р е о д о л е н и я т о г о и с т и н н о г о, ч т о
п о л у ч и л и в н а с л е д с т в о от... Г е т е...
И н д и в и д у а л и з м... ц и т а д е л ь, к о т о р у
ю н е с л е д у е т п р е о д о л е в а ть п р е ж д
е в р е м е н н о... Н о е щ е б о л е е... п р е т я
т... в ы к р и к и о с в о б о д е и с к у с с т в
а..."(3)
Эта апелляция к индивидуализму, недостаточность и даже
из-житочность которого мною была осознана, была в те дни
одним из средств подчеркнуть пустоту тщений модернистов-
соборников, упрекавших нас в устарелости и под
соборностью проповедывавших нечто, казавшееся нам
невразумительным; моя тактика была: бить новых соборников
с тылу тем, что ничего путного они не создали в
искусстве: после Ибсена; и бить их с фланга тем, что ни о
каком преодолении социализма у них речи не может быть.
Разочарование в коммуне "новаторов" - мой шаг на
"Весы", от которых я до 1906 года стоял дальше; меня
сблизила с редакцией полемика с "новой соборностью"; но я
же писал: мы - "не пришли к выводу, что надо остаться с
индивидуализмом"(4). Отказ от вчерашних утопий, разбитых
сплошной социальной бездарностью нас, меня сильно дручил.
Из отдаления 1904 год мне видится очень мрачным: он мне
стоит, как антитеза 1901 года; я неспроста
охарактеризовал 1901-1902 годы годами "зари"; в те годы
мне все удавалось;
(1)"Арабески", 280; 1906 год.
(2)Там же 278.
(3)Там же 280 - 281.
(4)Там же 280.
410
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
я чувствовал под собой почву; я жил расширенными
интересами; с 1904 года до самого конца 1908 я
чувствовал, что почва из-под ног ускользает; широта
интересов выбила меня окончательно на четыре года из
линии искусства; я мало работал творчески; все время
отнимало общение с людьми, многочасовые разговоры, чтение
теоретических сочинений, вразброс, - с недочитанными
хвостиками: не поспеть же всюду! Ведь я стал студентом-
филологом, вынужденным вместе с занятием философией,
которое заострилось для меня изучением Канта и
неокантианской литературы, все ж для зачетов возобновить
g`mrh латынью, греческим, мне постылой русской
историей; чтоб активно присутствовать на семинарии по
Платону у Сергея Трубецкого, которому я обещал реферат,
взяв темой его один из диалогов; надо было подчитывать
специально источники; и на письменном моем столе
появились развернутые томики Альфреда Фуллье, посвященные
Платону, с повсюду воткнутыми бумажными хвостиками для
отметки нужных мне справочных мест; должен сказать, что
развернутые страницы этих томиков покрывались пылью,
потому что не было времени: каждый вечер - собрания у
кого-нибудь, очередная рецензия или статья в "Весы",
написанная наспех; наконец: история древней философии
мало интересовала меня в те годы: я больше влекся к
вопросам теории знания и методологии; и поскольку воздух
философствующей молодежи моего круга в это время - Кант и
Коген с его школой, пытавшейся обосновать методологию
точного знания, то приходилось главную массу времени
тратить на изучение Канта (чтение с комментарием Карла
Штанге), Риля, Риккерта; воля свое идейное
самоопределение, я хотел написать во что бы то ни стало
философский кирпич под заглавием "Теория символизма",
вместе с досадливым чувством, что я еще не умею ответить
в гносеологических терминах на резкое отрицание всей мной
поволенной теоретической линии со стороны схоластиков от
философского папы Когена, превративших логику в приемы
японской гимнастики, в "Джиу-Джицу" какую-то, - все
вместе взятое определило мое решение, в годах
сказавшееся, как крупный промах; решение заключалось в
том, что я должен был до времени затушевать свое резкое
несогласие со школой Канта, чтобы, пойдя на выучку к
кантианцам, овладеть всеми фокусами: кантианской
методологии; и этими ж фокусами взорвать: кантиинцев;
таким необдуманным шагом я себя на года обрек быть каким-
то минером: вести подкоп под книжный шкаф сухих и
бесполезных трактатов, которые я должен был осилить:
труд, едва ли одолимый: и для профессора философии; где
же мне, художнику слова, уже;-затащенному Брюсовым в
публицистику "Весов" (с обя-
411
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
занностью выступать во всех драках за новое искусство), -
где же мне было справиться с задачей, непосильной и
спецам? Московские кантианцы уже и тогда разделилися на
две фракции: на сторонников "наукообразной" линии Когена
и на философов культуры от Генриха Риккерта (школа
Марбурга, школа Фрейбурга); риккертианцы не знались с
когенианцами; риккертианец, Рубинштейн мало водился с
представителями марбургской школы; риккертианца Богдана
Кистяковского еще не быго в Москве; лишь в 1909 году
явились активные пионеры от Риккерта: молодой Ф. А.
Степпун, юный С. И. Гессен. Я же, сосредоточившись на
"Предмете познания" и на "Границах естественнонаучного
образования понятий" (сочинения Риккерта), ходил, так
сказать, брать урок к марбуржцу, Борису Фохту;
создавались и тут, на малом участке поволенного мной
фронта, максимальные трудности: выслушивать Фохта,
проверять его замечания чтением Риккерта про Себя; и
одновременно знать: и Кант, и Риккерт, и Коген -
философы, совершенно чуждые мне; они, так сказать, -
teplnohk|qjne ущелье, которое когда-нибудь мне надо взять
приступом, чтобы, выйдя из этих теснин, строить
собственную философию.
Друзья "аргоновты", разделяя со мной критику Канта, не
понимали моих усилий: для критики "Критики" вообразить
картину мира по "к р и т и к е"; тут против меня
вооружились: и Эллис, и старый пестун моих стремлений,
Рачинский, тащивший меня к образованию с ним вместе
религиозно-философского общества.
Я, как нарочно, создавал себе максимум путаницы, не
учитывая времени, сил, условий работы и нервов; ибо я
превратил наскок свой на Канта в прохождение сквозь него
в годах, в какое-то систематическое превращение
кантианских терминов в антикантианские, так что позднее,
когда Шпет дразнил меня, что я ношу кантианский фрак для
приличия, то профессор Кистяковский, Богдан, в то же
время поздравлял меня с успешным одолением семинария по
Риккерту; полемисты ж из "Золотого руна" (Тастевен,
Вячеслав Иванов и другие) кричали громко: Андрей Белый
подменил-де сам символизм философией Риккерта.
В 1904 году я окончательно запутался в своей
философской тактике; эта "тактика" позднее сказалась и в
отказе написать теорию символизма.
Но философия еще с полбеды; одновременно: замысливши в
своей будущей книге пересмотреть историю религиозной
символики, я изо всех сил залезал в кружки спорящих
религиозных философов, отзываясь на их споры: по-своему;
в эту же злосчастную осень я оообенно часто видался со
Свентицким, Эрном, Флоренским, выслушивал религиозно-
философские эскапады Рачинского, благо-
412
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
с глазу на глаз и не глядя ему в глаза; мы оба, как
умели, превозмогали себя для общего дела: работы в
"Весах", ведь нас крыли в газетах, в журналах, в
Литературно-художественном кружке; я я должен сказать: мы
оба перешагнули через личную вражду, порой даже ненависть
- там, где дело касалось одинаково нам дорогой судьбы
литературного течения: под флагом символизма; и в дни,
когда Брюсов слал мне стихи с угрозой пустить в меня
"стрелу", и в дни, когда я ему отвечал стихами со
строчками "копье мне - молнья, солнце - щит", и в дни,
когда он вызывал меня на дуэль, - со стороны казалось:
все символисты - одно, а Белый - верный Личарда своего
учителя, Валерия Брюсова.
С Брюсовым дело обстояло тем трудней для меня, что
Эллис, возмущенный убийственным разносом его переводов
Бодлера, напечатанным в "Весах", грозился при встрече
побить Брюсова, а меня упрекал за то, что я допустил
выход рецензии брюсова (увы, - Брюсов был прав); и Эллис,
и Брюсов постоянно бывали у меня; и надо было держать ухо
востро, чтобы не произошла случайная встреча их у меня, и
чтобы не случилось чего-нибудь непоправимого.
Эллис в эту пору выступает передо мной окончательно в
своей роли "бывшего марксиста"; хотя и не марксист, он в
атмосфере нарастающих гулов революции, сотрясающих все
наши порядки дня, планы, литературно-философские здания,
все чаще и чаще и видом ментора бракует жалкие социально-
политические высказывания, раздающиеся вокруг нас, и,
выявляясь в поступках как анархист-максималист, то
приносит мне "Капитал", то советует ознакомиться с
"Историей социал-демократии" (три тома Меринга), которую)
я и одолеваю, но уже позднее.
Здесь опять, повторю: я описываю Эллиса в истории моих
увлечений социал-демократической литературой того
времени; я не рисую "бывшего" марксиста ни марксистом, ни
"бывшим"; но ведь я стал встречаться с н а с т о я щ и м
h марксистами лишь поздней: с 1906 года; а этот том
посвящен лишь событиям, обнимающим 1905 год (и то - до
лета); стало быть: было б насилием с моей стороны
утверждать, что я относился скептически к Эллису, как к
"бывшему" марксисту; что он не марксист - было ясно; что
и в прошлом он "не марксист", этого я не мог видеть еще;
и всерьез принимал за "марксистскую" его чеканку моих
мыслей по социологии, которые вспыхнули стихийно,
неорганизованно, не по плану, а под давлением нараставших
событий, когда разобраться в них стало жизненной
необходимостью; лишь осенью 1905 года я, бросив все,
"революционно" метался по московским улицам, силясь
примкнуть к движению до осени
414
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
1905 года, самый 1905 год воспринимался лишь в чувстве
негодования: сквозь дым кружков, длящихся общений, личных
драм и круга чтений; события, разыгравшиеся вокруг,
читались мною и криво и предвзято. Читатель, для меня
1905 год стал тем, чем он был, лишь: с момента, когда я
голосовал за закрытие университета и превращение его в
революционную трибуну; это было в сентябре 1905 года.
События же января воспринялись, как удар, на который я
ответил вскриком негодования; они оформились в сознании:
к осени.
Но с осени 1905 года и я, и Брюсов, и Эллис, и
Петровский, и все, меня окружавшие, вдруг понеслись
влево; занятия кружков продолжались, длились те же
общения, те же личные драмы заполняли сознание; но почва,
на которой встречались мы, нас несла механически от
средних, безразличных, пугающихся к тогдашним крайним
левым; в 1904 году мы еще могли "преть" с Астровыми;
осенью 1905 года все круто порвалось между мной,
большинством "аргонавтов" и ими; когда я приехал в
Петербург в 1905 году, Мережковский "левою" своей
болтовней импонировал, а через два месяца в линии
политических устремлений между нами оказалась трещина;
сочувствия мои стихийно развивались в сторону социал-
демократов; он же где-то запутался между Струве и...
эсерствующими.
Я говорю, что меня "несло", потому что круг чтения,
самообразование (по Бебелю, Каутскому, Штаммлеру,
Мерингу, отчасти Марксу, вперемежку с разными историями
капитализма вроде "Истории" Вернера Зомбарта) длилось
весь 1905 и 1906 год; но воспоминания эти вместе с
воспоминаниями об общении с Жоресом, личность которого
поразила меня, - тема второго тома "Начала века", который
я напишу, если на него будет спрос.
В конце 1904 года я застаю себя в отчаянных спорах с
Рачинским, с Астровым; я начинаю стрелять в них
"марксистскими" цитатами (может, и "псевдо"-
марксистскими); "Хозяйство и право Штаммлера отвечает
линии моих интересов (интересу к Канту, интересу к
социологии); книгу, конечно, мне рекомендовал "бывший"
марксист; в эти месяцы впопыхах, наспех, откладываются
мои переходные взгляды на общество, которые отразились в
статьях, наспех писанных, два года спустя лишь; привожу
из них несколько цитат не потому, что стою за них, а для
показа сырья, характеризирующего мои переходные взгляды
nohq{b`elncn момента.
"М е р т в е ц... в о с с е д а е т н а д ж и з н ь
ю"(1); история куль-
(1)"Арабески", 45.
415
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
туры в периоде борьбы с буржуазным государством - "и с т
о р и я р а з в и т и я ф о р м п р о и з в о д с т в
а"(1); "п о к а с у щ е с т в у е т к л а с с о в а я
б о р ь б а, с т р а н ы... а п е л л я ц и я к э с т е
т и ч е с к о м у д е м о к р а т и з м у(2), о б щ е с
т в о - т о л ь к о "с л о в а"(3); "ж и з н ь в н е о
б щ и н ы - о т д а н а к а ф е-к а б а к у(4); "г о с у
д а р с т в о - с к л е р о з, о т л о ж е н и е п р о ш
л о г о, с о з д а н н о е, ч т о б н а с и л о в а т ь
б у д у щ е е"(5); "с о ц и а л и з м - е д и н с т в е н
н о е у ч е н и е о г о с у д а р с т в е, п о с л е д
о в а т е л ь н о р а з в е р т ы в а ю щ е е п о с ы л
к и..."(6); "м ы п р и з ы в а е м в с е х п о д з н
а м я с о ц и а л и з м а"(7); "к о л и с о ц и а л и з
м г о с у д а р с т в е н е н - м е х а н и с т и ч е н
о н; н о м о ж н о р а с с м а т р и в а т ь с о ц и а
л и с т и ч е с к о е г о с у д а р с т в о к а к п е
р е х о д к с в о б о д н о й о б щ и н е... У р е г у
л и р о в а н и е э к о н о м и ч е с ки х о т н о ш е
н и й т о г д а... в з л е т ж и з н и... и з п р а х
а"(8).
Всего это написано в 1906-1908 годах; после собрано уж
в "Арабески".
В первых днях января 1905 года меня звали в Питер;
случайно заехавший к Эртелю его брат, офицер, А. А.
Эртель, служивший, как помнится мне, под командою отчима
Блока и живший в одном с ним коридоре, остановиться
любезнейше мне предложил у него, потому что имел он
свободную, ему ненужную, комнату; жить вблизи Блока
весьма соблазнило меня, Москва утомила; и я - почти бежал
из нее.
ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕНЬ.
Восьмого января я сел в поезд; рос рой диких слухов;
кричали газеты; лавиной росла забастовка; и Ёсе
повторяли: Гапон! А девятого утром я был на петербургском
перроне; сперва зашел в парикмахерскую; парикмахер:
"Сегодня рабочие двинутся; царь примет их; так нельзя
больше жить". Поразил видом Невский; гудело: - "С
иконами!" Чмокал губами извозчик: "Они, стало, - правы!"
На улицах кучки махались: мальчишки - присвистывали; в
контур солнечный, красный, повисли дымочки солдатских,
везде распыхтевшихся кухонь, скрипевших по снегу; солдаты
топтались при них.
От Литейного моста ногами на месте потопатывал взводик
(1)"Арабески" 47.
(2)"Арабески" 28.
(3)"Арабески 46.
(4)"Арабески" 56.
(5)"Араб ски" 150.
(6)"Арабески" 160.
(7)"Арабески" 150.
(8)"Арабески" 151.
416
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
солдат, - в башлыках, белоусых, хмуреющих, багровоносых;
а два офицера дергали шутками. Набережная: просторы,
зеленые льды; вот - казарменный двор, а - не видно
солдат; я разыскиваю А. А. Эртеля; мне открывает его
денщик: "Самих нет... Ждут: пожалуйста!" Я - прохожу, а
денщик за мной следом: "Казарма пустая: полк выведен".
Здесь - жить нельзя!
Я бросаюсь к Кублицким: квартиры их выходят в один
коридор, с той, где я остановился; Блок - в рубашке без
талии, не перетянутый поясом: "Что?" - "Говорят, что
пошли..." Торопливо, взволнованно: "Боря, - иди..."
Александра Андревна и Марья Андревна: примаргивают:
"ужас что: говорят..." Александра Андревна махается
ручкою; возгласы, предположенья: Дворцовая площадь! А -
слухи из кухни: стреляли, стреляют, убитые... И
Александра Андревна - за сердце: "Поймите, как "он"
ненавидит все это, а должен там с отрядом стоять..."
Блок, как ветер, метался вдоль окон и пырскал широкою
черной рубашкой в оранжевом фоне стены.
Я спешил к Мережковским.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .
Тут пауза.
Условимся: беспорядочный набросок того, что я видел и
слышал в исторический день есть "кино"-снимок - не более,
не характеризующий состояния сознания съемщика; про себя
я пережил слишком много в те дни; пережитое лежало где-то
глубоко: под спудом; оно поднималось к порогу сознания в
месяцах, определяя характер мироощущения лет; пережитое
позже сказалось презрением к "Полярной звезде", журналу
Струве, сотрудничетвом в социал-демократической газете,
беседами с Жоресом в 1907 году и т. д.; январь 1905 года
- перегружение внешними впечатлениями от встречи с
людьми, с которыми издавна я хотел познакомиться, которые
интересовали меня с 1901 года; вдруг все они обрушились
мне на голову; и - внезапно предстали: Минский, Сологуб,
Перцов, Чулков, Лундберг, Булгаков, Бердяев, Дмитрий
Философов, Аскольдов, Тернавцев, Лосский, Розанов,
Зинаида Венгерова, Сомов, .Бакст, присяжный поверенный
Андриевский, тогда интересное имя; и - сколькие!
В первых днях все было метнулись "налево"; в
последующих - появилась задержь: у скольких!
Подлинно переживал я события дней лишь в беседах с
Семеновым, Леонидом, готовым: к немедленному восстанию;
он коридо-
417
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
ром, минуя гостиную Гиппиус, прибегал в мою комнату; и
b{bkej`k меня в Летний сад, где мы и беседовали;
вероятно, его тянуло ко мне: он во мне находил себе
эмоциональный отклик; "серьозно п о м а л к и в а л и"
мы о событиях времени - с Блоком: на прогулках с ним по
"рабочим районам"; говорю-помалкивали: сочувственное
молчанье с покуром было формой общенья для Блока в те
дни; из этого молчанья потом вынырнули его стихи,
революционно окрашенные, и будущие статьи о России,
интеллигенции и народе; и мои статьи вроде "О пьянстве
словесном", в которых я предлагал закрыть интеллигентские
"говорильни", чтобы научиться ходить поступью Марксов(1);
это была моя реакция и на "говорильню" у Мережковских,
когда они убедили меня: переехать к ним; "говорильня" в
первых же днях оказалась трудной нагрузкой, которую
избыв, как от тебя требуемый урок, я удирал: к Блокам;
подлинная потрясенность событиями выявилась лишь к осени
1905 года.
Я даже не старался глядеть в себя самого, чтоб не
видеть, как меня сражала "общественность" Мережковских;
оттого-то они потом и записали меня в категорию
"безответственных"; и - да: по отношению к их
"общественности" я был безответственен, выделив из них
"личности", которых я разглядывал пристально; "деятели" ж
перестали вовсе интересовать в них.
Я, болтая с Гиппиус, скорее общался с ней по линии
дурачеств: она была - остроумницей: едкая, злая, с
искрой. С Мережковским же у меня - ничего не вышло!
Но в роковой день, когда я несся к ним, пересекая
отряды, походные кухни, взволнованные кучки на
перекрестках, я пережил многое: неповторяемое никогда.
Помню: вот - уже Литейный: вот - черно-серый угловой
(углом на Пантелеймоновскую) дом Мурузи; подъезд, дверь
четвертого этажа; дощечка с готическими буквами:
"Мережковский"; звонюсь, отворяют, вхожу; и...
- "Ну, выбрали! день" - 3. Н. Гиппиус тянет душеную
лапку с козетки, стреляя душеным дымком папиросочки,
вытянутой из коробочки, - лаковой, красной, стоявшей с
духами; на этой козетке сидела комочком до трех часов
ночи - с трех часов дня: в шерстяном балахонике,
напоминающем белую ряску.
Запомнился мячик резиновый пырскавшего пульверизатора,
про-бочка, притертая, от духов "Туберозы-Лубэн", - в
красных, ярких обоях и в красно-малиновых креслах, едва
озаряемых золотоватыми искрами: взмигивал отблеск на
туберкулезной щеке ее.
(1)См. "Арабески".
418
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
Мережковский, малюсенький, щупленький (на сквознячках
унесется в открытую форточку), в туфлях с помпонами
шмякал ко мне, неся лобик и зализь пробора, и нос свой
огромный и всосы ввалившихся щек, обрастающих шерстью:
"Борис Николаевич" - хилую ручку мне подал, поросшую
шерстью; и выпуклил око, - пустое, стеклянное: "ужас
что!"
Келейные сплетни о Вилькиной, о - чем нанюхался Федор
Кузьмич Сологуб! О событиях - с шипким подходом;
qsfdem|, как брюки, - со штрипками; пальцем - к
бисквитику; передавалась хрупкая чашечка; к ней
прикасались, склоняя пробор и оттачивая остроумное слово.
Кто?
Юркий Нувель; он, загнувши мизинец, усами касаясь
чашки, рассказывал нам: Сергей Павлович(1) ехал-де в
карете, некстати надевши цилиндр; и - рабочие...
остановили карету?!.. Смирнов, бледнолицый философ и "н о
в о п у т е е ц" в студенческом с тонным душком сюртуке,
с тонкой талией, с воротником, подпирающим уши; и он -
говорил: о философе Канте; коли Лундберг был (а может,
был и воскресеньем поздней), то о хаосе он говорил:
бледный, страдающий, кажется, от расширенья сосудов.
Был какой-то Красников-Штамм.
Звонок: Минский.
- "А я - с баррикад!"
Извиваясь тростиночкой-талией, вставив лорнетку в
глаза, 3. Н. Гиппиус с нами кокетничала тем же черным
крестом, тарахтящим из четок, склоняя рыжавое пламя волос
под каминное пламя; Д. С. Мережковский, похлопав глазами,
ушлепал, метая помпоны, к себе в кабинет.
Я остался у Мережковских обедать; и после все вместе
отправились к Философову (он жил у своей матери), чтобы
он вывез нас в Вольно-экономическое общество - на
заседание экстренное.
Философов года "вывозил" Мережковских!
Растерянная толчея вокруг стола, за которым сидели
испуганные бородатые люди, метаясь руками, чтоб, павши
локтями на стол, вдруг молчать, ожидая вестей, среди
криков о том, что движенье - совсем не "поповское".
Кто-то встает и выпячивает на нас бороду:
- "Вооружимся!"
В лице же - испуг, что события перемахнули: да, да, - ре-
во-лю-
(1)Дягилев.
419
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
ция! Гиппиус влезла на стул чтоб лучше видеть; и -
выгнулась над головами: в шуршащем, блистающем черном
атласе, приставив лорнетку к зеленым глазам; я
вскарабкался рядом; но чопорно к нам подошел Философов -
изящный, пробритый, с пробором зализанных светлых волос,
в синем галстуке, передвигаясь шажечками, длинный, как
шест; он, обидно приблизивши маленький усик, с картавым
привзвизгом сказал 3. Н. Гиппиус, что неприлично ввиду
национального траура ей улыбаться; здесь - русская
интеллигенция, - не "декаденты"!
И - обиженнный взгляд стекловидных, светло голубеющих
глаз.
3. Н., вспыхнув, сконфузясь, глаза опустила, со стула
сошла, затерялась в толпе... Я без "тона" стоял и над
гробом отца; неужели же, думал я, тот факт, что он-де
общественник, дает ему право дать мне урок?
Тут какой-то субъект - на весь зал: "Прошу химиков
выйти за мною в отдельную комнату!" Думал: "Как можно:
под уши ж шпиков?" Стал искать Мережковских; их - нет
sfe; мне) объяснили: они-де делегированы закрывать в знак
протеста Мариинский театр; вместо них - торчит Арабажин,
мой дальний родственник.
- "Ты как попал сюда? Едем ко мне!"
Шумы:
- "Горький!"
С ним - бритый субъект, на которого не обратил я
внимания, хрипло кричал, призывая к оружию: с хоров;
потом объяснили, что это был переодетый Гапон.
Я, было, к Арабажину, а Арабажин - уже исчез.
И снова я в темных проспектах; все - пусто; тьма -
мертвая; нет полицейских; лишь издали в лютый мороз
открывается пламя костра, у которого серо топочут
солдаты; и там - ружья в козлах. Хрустела тяжелая поступь
патрулей; чтоб им не попасться, винтил в переулках: без
паспорта; еле добрался до бока казармы, куда утром
съехал, ворота - захлопнуты; а часовые - меня не пускают.
- "У офицера, у Эртеля я..."
- ""Вот пройдет господин офицер: он - рассудит!"
А ноги замерзли.
"Хруп-хруп": в темноте побежал рыжеусый толстяк; и за
ним - два солдата; сжимая револьвер, оглядел
подозрительно.
- "Деться ж мне - некуда!".
- "Вы подвергаетесь всем неприятностям, связанным с
весьма возможной осадой... Казарма пуста, а рабочие
двинулись к ней..."
- "Что ж, подвергнусь..."
- "Пустить!"
420
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
"Трус - мне Блок объяснил, - ночью всех обежал и кричал
в офицерские двери: "Рабочие!" Это - Короткий!"
Позднее в Москве полицмейстером был: беспощадно сажал,
взятки брал.
Факт расстрела войсками рабочих поставил меня в
невозможность остаться у Эртеля; Блок соглашался со мною,
ругая военных в лицо виноватого отчима; пользуясь тем,
что меня уговаривали Мережковские переселиться к ним,
утром, десятого, взяв чемоданчик, я - к ним.
МЕРЕЖКОВСКИЕ
Первые дни в Петербурге меня отделили от Блоков: вихрь
слов: Мережковские! Сыпались удары репрессий, после чего
электричество гасло на Невском; аресты, аресты; кого-то
из левых писателей били; я левел не по дням!, по часам;
Мережковскому передавали из "сфер", что его - арестуют;
он каждую ночь, ожидая полицию, передавал документы и
деньги жене.
С ней общенье, как вспых сена в засуху: брос афоризмов
в каминные угли; порою, рассыпавши великолепные золото-
красные волосы, падавшие до пят, она их расчесывала; в
зубы - шпильки; бросалась в меня яркой фразой, огнем
хризолитовым ярких глазищ; вместо щек, носа, лобика -
волосы, криво-кровавые губы, да два колеса - не два
глаза.
Вот и прическа готова: комочек с козетки, в колени
вдавив подбородок, качает лорнеткой, любуяся пырсныо ее
инкрустации; белая, с черным крестом, в красном фоне
обой, в розовато-рыжавых мельканьях каминного света, как
в бабочках.
Я, с кочергой, - при камине: на, маленьком пуфике;
красная горсть - в черно-пепельных кольцах:
- "Смотрите-ка: угли, точно свернувшийся злой, золотой
леопард!"
- "Подложите поленья; уж вы тут заведуйте!"
Ведаю: вспыхнули!
В безответственных разговорах она интересна была; в
безответственных разговорах я с ней отдыхал: от тяжелой
нагрузки взопреть с Мережковским; она, "ночной житель",
утилизировала меня, зазвавши в гостиную по возвращении от
Блоков (к 12 ночи); мы разбалтывались; она разбалтывала
меня; и писала шутливые пируэты, перебирая знакомых своих
и моих; держала при себе до - трех-четырёх часов ночи:
под сафировым дымком папироски, расклоченным яаписто (это
она приучала меня курить); мы, бывало, витийствуем о
цветовых восприятиях: что есть "к р а с н о е", что есть
"п у р п у р н о е"! Она, бывало, отдастся мистике
421
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
чисел: что есть один, два, три, четыре? В чем грех плоти?
В чем - святость ее? И дает свою записную изысканно
переплетенную книжечку: "Вот: вы впишите в нее свою мысль
о цветах: мне на память... Как, как?.. Дневников не
ведете?.."
Она подарила мне книжечку: "Вот вам, записывайте свои
мысли... А чтобы поваднее было, я вам запишу для
начала... У Дмитрия, Димы - такие же книжечки: друг другу
вписываем мы свои мысли".
Она проповедывала "коммунизм" дневников, став на фоне
каминных пыланий: сквозной арабескою; лучшие
стихотворенья свои она выговаривала, отдаваясь игре.
Но - тук-тук: в стену; и - глухие картавые рявки:
- "Да, Зина же, - Борю пусти... Ведь четвертый час...
Вы мне спать не даете!"
И - топ: шамки туфель; в открытых дверях - всосы щек, и
напуки глаз неодетого маленького Мережковского:
- "Мочи нет... Тише же!"
И он - проваливается в темноту: и опять - за стеною
колотится.
Он - нас не одобрял: не серьезные темы! 3. Н.
провоцировала меня к шаржам; я редко острил - от себя: от
чужой остроты я взлетал до абсурдов; и Гиппиус, зная
тогдашнюю слабость мою, меня уськала темой смешливой;
вытягивала свою нижнюю, злую губу, подавая дымок, из нее
вылетающий, щурилась, брыся ресницами; и - представлялась
простячкой:
- "Вам 3***, Боря, нравится?" - "Нравится". - "Ну, а по-
моему - она назойлива..." - "Может быть..." - "Помните, к
вам приставала, как муха?.." - "Пожалуй, что муха".
3. Н. кошкою дикою вцепится, даже подпрыгнет с козетки,
- готовая ведьмой с дымами в трубу пролетать: "Ну, ну, -
муха же? Всякие мухи бывают; а вы, - вы подумайте: муха -
какая?... Не шпанская же". Увлеченный сравненьями с
мухами, бацаю трудолюбиво: "Она - песья муха!"
И - кончено: через три дня ею будет передано с видом
девочки глупой: по адресу:
- "А Боря о вас говорил, что вы... - в синий дымок с
наслажденьем злым, - песья муха..."
Всю жизнь она ссорила; после она... клеветала, что А.
Ф. Кони продался-де советской власти за сахар, а А*** -
за ботинки(1).
Шаржировал я над чужим материалом: пассивно, коли
инспиратор был добр, то слагались во мне - добрейшие
шаржи; она ж - была "злая"; она из меня с наслажденьем
выуськивала осмеяние:
(1)Смотри напечатанные за границей дневники Гиппиус
(кажется, в пражском журнале Струве).
422
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
"Как вам глаза ее?" - "Великолепные, серые..." -
"Выпученные; а белок, как крутое яйцо..." - "Что же,
думаете, - бутерброд?" - "Как?" - "Яйцо разрезают; и
кильку кладут на него..."
Этот бред был по адресу передан П***. П*** за него до
смерти меня не любила...
- "Как вам, Зина, - не стыдно!"
- "Не я ж говорила, а - вы: я же только передала правду".
Проклявши меня за "Октябрь", в 1918 году, напечатала она
в
своих воспоминаньях о Блоке - по-русски, французски,
немецки, венгерски, - какой я-де "дразнило" дрянной; и
вдобавок еще - "косой"; одна публицистка венгерская,
встретив в Берлине, спросила меня: "Вы... вы...?" -
"Что?" - "Да не косой!.." - "А откуда вы взяли, чтой мой
удел - косость?" - "Я прочла в будапештской газете: из
воспоминаний 3. Гиппиус..."
Мне в 1905 году было лишь 24 года; потребности в
резвости я изживал - в шутках и в жестах, нелепейших; но
не "разыграешься" при Мережковском; она же любила
приигрываться: ко мне; и наш разговор закипал, как
кофейник, калясь, как раскал кочерги, мной засунутой в
уголь; ее я вытаскивал, чтоб завертеть: из теней -
вензеля завивные, пылающие перемельками, искрились.
Гиппиус часто копалась в своих граненых флакончиках, в
книжечках, в сухих цветочках, в тряпицах; повяжет свою
прическу атласною красною ленточкой; кротко дает мне
советы:
- "Я к Вилькиной вас не пущу... К Сологубу - идите... С
сестрой моей, с Татой, сойдитесь; ее растолкайте-ка:
какая-то рохля она... С Антоном Владимирычем -
постарайтесь узнаться... Куда завтра вы? Дима же будет у
нас..."
Ночь: четыре часа; вьюга хлещет, бывало, в открытые
окна ее малой спаленки (спала с открытым окошком):
"Проснусь, - в волосах моих снег; стряхну - ничего; коль
не окна - мне смерть; я ведь туберкулезная..." Утром (от
часу до двух) из "ледовни" своей проходила в горячую
ванну; жила таким способом: десятилетия!.
Дмитрий Сергеич - оранжерейный, утонченный "попик",
воздвигший молеленку среди духов туберозы, гаванских
qhc`p; видом - постник: всос щек, строго выпуклые,
водянистые очи; душою - чиновник, а духом - капризник и
чувственник; субъективист - до мизинца; кричал он об
общине, а падал в обмороки от звонков, проносясь в
кабинет, - от поклонников, сбывши их Гиппиус;
отпрепарировав, взяв за ручку, их Гиппиус вела в
кабинетище:
- "Дмитрий!"
А он выходил и обнюхивал новых своих поклонников, скорого-
423
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
воркой рявкая в тысячный раз, в миллионный: "Вы - наши,
мы - ваши: ваш опыт - наш опыт!" Он слушал не ухом, а -
порами кожи; показывал белые зубы и напоминал Блоку,
маску осклабленного арлекина, обросшего шерстью до...
бледнозеленой скулы; сядет слушать; и - бьет по коленке
рукой; не дослушав, загнет трех-коленчатым, великолепно
скругленным периодом; хлопнет, как пробка бутылочная,
почти механически:
- "Бездна: бог - зверь!"
И, пуча око, ушмякивает в свой кабинет, - превосходный,
огромный, прекрасно обставленный, как кабинет
управляющего департаментом; стол: двадцать пять
Мережковских уложишь! "Священная" рукопись - еще
раскрыта: его рукопись! Он пишет в день часа полтора: с
половины одиннадцатого до полдня; бросал - при звуке
полуденной пушки; весь день потом - отдыхал; как ударит
вдали Петропавловка - кладет перо; я видал его еще
непросохшую рукопись; и фразу последнюю с нее считывал;
она кончалась порой двоеточием.
Вокруг "священного" его текста - квадратом разложены:
карандаши, перья, ножницы, щипчики, пилочки, клей, пресс-
папье, разрезалки, линейки, сигары: как выставка! Рукой
касаться - ни-ни: сибаритище этот оскалится тигром; что
было, когда раз, завертевшись, я сломал ему ножку от
ломберного, утонченного столика; в эту минуту звонок: он!
- "Как? Что? Мне сломали?.. Что делали?.."
- "С Татой вертелись..."
- "Как? Радели?"
- "Помилуйте: попросту веселились!
- "Радели, радели: какой ужас, Боря!"
Нас - выставил, а сам - захлопнулся: холод, покой,
тишина! Одиночество, блеск, аккуратность; коричнево-
вспухшие, чувственные губы посасывали дорогую сигару,
когда, облеченный в коричневый свой пиджачок,
перевязанный синим, опрятно затянутым галстуком, садился
он; в свое кресло; и девочкину волосатую ручку с сигарой,
на ручку кресла ронял, пуча очи в коричнево-серую стену,
и - праздно балдея.
Бывало в огромных стенах под огромными окнами шлепает
туфлей по диагонали, - как палка, прямой и холодный;
схватясь за спиною руками, напучивши губы, -
насвистывает; а сигарный дымок отвеется от фалды его.
Пахнет корицами!
Холодно, - в пледик уйдет; и - прыг: ножками в черный
диван; закрывается пледиком, туфлей с помпоном вращая,
читает арабские сказки: часами один!
424
|
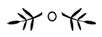
|
|
|
 |

