 |
|
|
|
 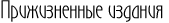
<<< Предыдущий блок :: Следующий блок >>>
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
судьба не велит нам встречаться, а - надо, бы; молодо как-
то тряхнув волосами, он ловко вскочил на машину; и - был
таков,
Выскок из тьмы - вспышка магния снова.
Скоро мы встретились: в той же квартире, у доктора
Доброва; Андреев собирался переезжать; в Петербург, меня
долго расспраши-вал об А. М. Ремизове и о Блоке, с
которым он только что встретился; с Блоком я был тогда -
на ножах; зная это, он точно нарочно меня на него
поворачивал, пристально вглядываясь и точно изучая мои
слова о Блоке; мы пошли от стола, точно выдернувшись из
беседы (кто был за столом, я - просто забыл), ставши в
тень; что-то высказал мне он, выскакивая из-за стола, и
занавес приподымая над всей ситуацией нашего глупого
быта, в котором Борис, Леонид Николаевичи занимают не то
положение друг относительно друга, какое должны бы
занять: повторяю, что так отдалось мне; а что сказано
было, - опять не помню.
Пожалуй, и помню: не фразу, а среднюю часть ее, без
окончания, и без начала:
- "Как странно!"
Опять - только выхват двух слов из их цепи; но выхват,
как магниев свет, потому что он мне подмигнул на свое
"как странно"; и смысл слова "странно" - страннел.
Этой осенью из Петербурга он появлялся в Москве; он был
в зените известности, сопровождаемый роем людей, меня
резко ругавших в газетах; порой ри хотел из-за этого роя
- ко мне просунуться; я ж в этом рое - ежился; и -
отходил от него; а его - от меня отволакивали; он бросал
через головы как бы грустный, сочувственный взгляд,
мимолетом помигивавший, как зарница.
Запомнилось: фойэ Художественного театра; я чувствую
мягкую руку, положенную на плечо; я - повертываюсь:
Леонид Николаевич ласково мне улыбается; обнял за талию,
отвел к стене; покурили в согласном молчании; но рты
разевали на нас (на него!); и я - убежал от него. Скоро,
встретясь опять (где - не помню), мы попали с ним вместе
на "Бранда" (он мне лишний билет предложил); восхищался
игрою Качалова он; в толпах мы говорили с ним в антрактах
об Ибсене; он, взявши под-руку, мягко ступая в сине-серых
коврах, склонил нос; перетряхивал прядкою; и разговор
соскользнул просто к жизненной драме; я жаловался на
разбитые нервы, на мельки людей; он косился со вздохом:
- "Борис Николаевич, перемудрили вы: я книги бы у вас
отобрал да увез бы в Финляндию вас; сунул бы вам удочку в
руки".
Так пять актов сидели мы рядом: в потушенном свете; и
пять актов молчали под Ибсеном, так говорившим ему, да и
мне; после
372
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
этого (судьба, как нарочно, вставляла молчание в нас)
захотелось мне услышать и слова его, а не подмиг:
вздергом бровищи; и я явился в "Лоскутную", где он
временно жил; мы - затворились вдвоем; я пространно ему
говорил о том, что волновало меня в его творчестве; он -
слушал внимательно; видя, что я от мигрени страдаю, он
вдруг сердобольно засуетился, отыскивая мне порошок от
мигрени; но затащил - в ресторан: вместе обедать; и вдруг
возбужденно за рыбой принялся рассказывать он на перерез
разговору: де старая дева явилась к врачу с объяснением,
что потеряла невинность, - случайно; а доктор ее уверял-
де, что кажется ей это; она потребовала, чтобы доктор
свидетельство дал, объясняющее этот случай несчастный;
меня удивляло волнение, мимика, нервность, с которой
единственный случай коснуться друг друга словами Л. Н.
превратил в разговор об утрате невинности; я поспешил
удалиться, чтобы успокоить свою мигрень: в этот вечер
читал я публичную лекцию; и мне показалось, что Андреев -
ужасный чудак.
Скоро передали с ужимочками - те, чья функция
сплетничать, - слова Леонида Андреева о нашей встрече в
"Лоскутной":
- "Ко мне приходил Андрей Белый; доказывал жарко, а я
не понял ни слова".
Подумалось, что он ломается перед газетчиками, подавая
им повод к плакату: "Андреев и Белый"; я знал, что "не
понял" - гримаса; сам он признавался А. Блоку
впоследствии, когда я сознательно избегал его, что мы -
близки друг другу.
Редакция "Утра России" меня пригласила однажды Андреева
со-провожатъ к Льву Толстому; но я наотрез отказался;
Андреева избегая. Но попав в Петербург, видясь с Блоком,
я касался Андреева; мы устанавливали, что какая-то
близость меж нами троими действительно - есть; это было -
на "Балаганчике" Блока: у стойки буфетной; мне помнился
Блок: сюртук - с тонкой талией; локоть - на стойке; а нос
- наклоненный в коньяк:
- "Знаешь, - "Кизнь Человека"... Хи... Выпьем?"
И мы говорили о музыке Саца к андреевской драме;
крикливые, хриплые, талантлива задребезжавшие во всех
московских квартирочках ноточки; была в эти дни - тьма
реакции: всюду "свеча" догорала в те дни; что-то падало,
падало мокрыми хлопьями; точно хотел пробудиться петух;
не раздался; и все замирало бессильно; Андреев ходил,
точно в маске; писал свои "Черные маски"; и - странно:
последняя наша встреча - под маскою. Это был маскарад у
художника Юона: на святках; я, закутанный в красное
шелковое домино, вызывал удивление:
- "Кто такой?"
373
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
Явился Андреев среди масок, торжественный, бледный,
высокий, серьезный, нес профиль свой; он так пристально
вглядывался в маскарадные позы; и впервые казался
естественным; точно ходил среди масок в своем собственном
быте.
А когда сняли маски, то я, войдя в роль ("некто в
красном"), все еще дурачился и интриговал, своей маски не
сняв, и пробираясь торжественно и угрожающе в шопотах:
"кто это, кто?" Поляков и мадам Балтрушайтис, прижавши к
стене, приставали ко мне:
- "Зачем нe снимаете вы маски? Кто ж вы такой?"
За моею спиной раздался спокойный, отчетливый голос:
- "Это - Борис Николаевич".
Быстро оглядываюсь: Леонид Николаевич; и - Поляков ему:
- "Вовсе же не он!"
Леонид Николаевич лишь мне подмигнул с тем подрогом
бровищи, с которым он встретил меня в первый раз на
квартире: с сочувственно грустным, как бы вопрошающим;
миг - и спокойный, застылый, тяжелый свой профиль понес
от меня, точно маску средь масок.
Я больше не видел его.
Так последняя встреча - вспых тьмы, как и первая;
вспых, помигавши, погаснул в пустом разговоре меж нами;
он, выйдя из тьмы, в тьму ушел от меня; мои встречи с
Андреевым - несоответствие меж оформлением и смыслом:
какой-то разрыв, - ненормальный, ненужный, - в период,
когда, разрывалась душа, и вопрос возникал:
- "Жить или - не жить?"
Тогда в бездну реакции, в сумерки сальных, коптящих,
огарочных "Саниных", криков похабных из "Вены"(1), в вой
мороков о кошкодавах-писателях(2), о странных оргиях,
будто бы бывших на "башне" Иванова -
- падало, падало, падало -
- сердце!
"ВЕСЫ-СКОРПИОН"
Кружок "Арго" - словесный запой; Кант - учеба;
"Свободная совесть" - популяризация; ну, а "Весы" -
трудовая повинность: кование лозунгов литературной
платформы; кругом было вязко, не-
(1)Петербургский ресторан, посещавшийся писателями.
(2)Мало проверенные слухи о том, как компания пьяных
писателей затаскивала кошек и вешала-де их.
374
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
и "Стороженки" в сплошных "Маяковских", чтоб отмстить нам
за то, что мы, а не они подняли ла знамя Верхарнов,
Уитменов Гамсунов, которых они оплевали в свое время;
надев рубашки ребяческие, голопузые старцы помчались, в
припрыжку... за Хлебниковым: "И я тоже!"
Но факт - оставался; а - именно: свороты вкуса сплелись
с оплеухой по чьим-то ланитам; был сломан хребет "истин"
Пыпина после чего появилась и бескорыстная критика:
просто повидло какое-то приготовлял Айхенвальд; а "Весы",
подытожив свою шестилетку, закрылись: весовский товар под
полой продавался теперь везде; и на "браво, Верхарн",
выходил и раскланивался, прижимая к груди пришивные
"весовские" руки, приятный весьма... "силуэт"
Айхенвальда.
Такого упорного литературного боя, как бой за
решительный переворот в понимании методики стиля с
буржуазной прессой, впоследствии не было: были только
кокетливые карнавалы: стре-лянья... цветами; довоенная
opeqq`, нахохотавшись над символистами, вдруг проявила
сравнительную покладистость по отношению к течениям, из
символизма исшедшим.
Нам некогда казалось, что стояла эскадра в девятьсот
четвертом году: броненосцы-журналы, газетные крейсера
били по юркавшей с минами лодке подводной; вдруг "Русская
мысль" подняла белый флаг: "Я сдаюсь"; а на мостик
командный взошел В. Я. Брюсов, доселе - "подводник".
"Весы" - упразднились.
Шесть лет при боевых орудиях службу я нес с Садовским,
Соловьевым; четыре - с Л. Л. Кобылинским; на капитанском
мостике стоял Брюсов; С. А. Поляков - при машинах; друг
другу далекие - не расходились мы: самодисциплина.
Бранили нас - Андреевы, Бунины, Зайцевы, Дымовы и
Арцыбашевы; Блок и Иванов часто покряхтывали на нас, и им
влетело - за то", что хотели они царить в те минуты,
когда Брюсов, я - лишь трудовую повинность несли. Коль
Иванову льстили "чужие", он - маслился от удовольствия; а
коли Брюсову льстили, он - откусывал нос. В "Весах" не
было строчки, написанной не специалистами; тут - корифей,
тут - статист, тут - в венке, тут - в пылях, с грязной
тряпкой; "ве-совец" - таким был; Брюсов пыль обтирал, как
"Бакулин"; 3. Гиппиус - как "Крайний"; Борис Садовский -
в маске "Птикса", а я был - ряды греческих букв (вплоть
до "каппы") "2 бе", - "Б. Бугаев", "Яновский" и
"Спиритус"; благодаря псевдонимам шесть или семь
специалистов - казалися роем имен; они давили: зевок,
отсебятину, позу, "нутро", штамп, рутину, цель - вовсе не
в том, чтобы "перл" показать; цель - тенденция: с
"Блоками", "Белыми" и "Сологубами" о "Дюамелях",
"Аркосах", "Уитменах" внятно на-
376
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
помнить: "Читайте не Льдова - Языкова, не Баранцевича -
Дельвига, коли уже касаться "вчерашнего дня".
"Весы" пряталися в "Метрополе", отстроенном только что
и удив-лявшем слащавой мозаикой Головина; вечер: розовое
электричество вспыхнуло от подъезда гостиницы, там, где
стена и проход на Никольскую, - сверт: двор, подъезд,
этажи, доска: "Скорпион"; комнатушки: в одной - полки,
книги; и столик с подпиской (печатки, расписки), пальто,
котелок, трость Василия; он - и служитель, и - друг:
пиджак, синий, и лиловенький галстук, при усиках; ростом
- невзрачен; он все понимал в нашей тактике, ярко
"врагов" ненавидел, участвовал в "прях", дерзил Брюсову;
в часы досуга, надев котелочек, пальто (трость -
подмышкой), фланировал под "Дациаро", раскланиваясь: с
этим, с тем.
- Комнатушка вторая - не редакция, а - лавчонка:
фарфорик, гра-, вюра, кусок парчевой, изощренные часики,
старый пергамент й выставка пестрых обложек; два стула,
синявый диванчик, стол, шкафик, на нем антикварные
редкости, гранки; лежит на столе пресс-папье: препарат
скорпиона, когда-то живого, запаян в стекло; стены -
красочный крик: Саратова, Судейкина, Феофилак-това, Ван-
Риссельберга; тяжелая рама с Жордансом, добытым в
московском чулане; Рэдон и - обложка, последняя, Сомова;
ряды альбомов: Бердслея и Ропса; мы все спотыкались о
стол, о второй; он - огромен, он - веер обложек:
onqkedmhe книжки журналов - французских, английских,
немецких между итальянскими, польскими, новоболгарскими и
новогреческими; все прощупано и перенюхано С. Поляковым;
из морока красок его голова с ярко-красным, редисочкой,
носиком, втиснута криво в сутулые плечи; в нем что-то от
гнома, когда он поставленной наискось желтой своей
бородой измеряет рисунок и маленькой желтой плешью с
пушечком - глядит в потолок.
Он скрежещет кривою улыбкой; лицо очень бледное,
старообразное: желтая пара; как камень шершавый, с
которого желтенький лютик растет; так конфузлив, как
листья растения "не тронь меня"; чуть что - ежится: нет
головы; лицом - в плечи; лишь лысинка!.. "Что вы?" - "Я,
так себе. Гм-гм-гм... Молодой человек из Голландии - гм-
гм - рисунки прислал".
И все - убирается; перетираются руки; на все - "что ж,
прекрасно"; в уме же - свое (хитр, не скажет): "Рисунки
голландца - издать, чтоб носы утереть ретрогрардной
Голландии; лет через десять она академиком сделает этого
- гм - молодого - гм-гм - человека; теперь - дохнет с
голода!"
Раз я накрыл в "Скорипионе" С. А. Полякова, когда все
разошлись (он тогда именно и заводился, копаясь в
рисунках); по-
377
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
ревывая про себя, он шагал, скосив голову на бок, средь
полок, фарфоров и книг, зацепляясь за угол сгола и
искашиваясь на меня недовольно (спугнул); носик - в
книгу.
- "Вы что это?" - "Гм-гм, - подставил он мне сутулую
спину и желтую плешь, - изучаю, - весьма недоверчиво из-
за спины смотрел носик, - корейский язык". - "Зачем?" -
"Гм-гм: так себе - гм!"
Языки европейские им были уже изучены; близевосточные -
тоже; и очень ясно, что дело - за дальневосточными; с
легкостью одолевал языки, как язык под зеленым горошком;
большой полиглот, математик, в амбаре сидел по утрам он
по воле "папаши"; а - первый примкнул к декадентам, тащил
"Скорпион", в нем таща символизм сквозь проливы и мины
бойкота: к широкому плаванью; в миги раздоров он,
морщась, присевши за том, нюхал пыль: "Образуется... Ну,
ну... Пустяк". Выходил из угла: миротворной рукою
заглаживать острости; вдруг вырастал, заполняя
пространство; загладив, горошком катился в свой угол,
куда никого к себе не пускал; там - рисунки, концовки,
заставки; а право идеи планировать - нам предоставил; в
артурские дни бросил публике номер "Весов" в очень
стильной японской обложке. "Весы" - возвращали
подписчики: в знак протеста.
Вкусы его - подобные жадности: к... глине; я видывал
странных субъектов: "Приятно погрызть уголек". Так любовь
Полякова к тусклятине напоминала подобное что-то: как
будто явясь в "Метрополь", с удовольствием перетирая
сухие и жаркие очень ладошки, заказывал блюда: раствор
мела с углем; жаркое - печеная глинка; хвативши стакан
керосинчика, переходил он к помаде губной, посыпая
толченым стеклом вместо сахара; после съедал вместо сыру
тончайший кусочек казанского мыла; за все заплативши
ncpnlmeixhi счет, появлялся в "Весах".
Таков супер-модерн его вкусов, подобный... корейский
грамматике; глаз изощрял он до ультра-лучей; красок
спектра не видел; где морщил он доброе, гномье лицо над
разливами волн инфра-красных, тусклятину видели мы в виде
супа астральных бацилл, иль - рисунков Одилона Рэдона;
порою хватал лет на двадцать вперед.
Он был скромен; являлся конфузливо, в желтенькой,
трепаной паре, садясь в уголочек, боясь
представительства; спину показывая с малой плешью,
покрытой желтявым пушком; и поревывал: "Полноте вы". Я не
помнил ни тоста его, ни жеста его: сюртук на нем
появлялся - раз в год.
Эрудит исключительный, зоркая умница, а написать что-
нибудь, - скорей зеркало съест! Впрочем, раз появился
обзор кропотливый грамматик, весьма экзотических; подпись
- Ещбоев: "Ещбоевым"
378
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
высунул нос свой в печать, чтобы, спрятавшись быстро,
сидеть под страницей "Весов", шебурша "загогулиной"
Феофилактова, и утверждать: она - тоньше Бердслея: ее
очень тщательно гравировали: она - украшала "Весы".
Комнатушка "Весов" - парадокс; как в каюте подводника,
тесно; технические аппараты - везде; к ним же радиоволны
неслись - из Афин, Вены, Лондона, Мюнхена: трр! -
"Покушение немецкой критики на талант поэта
Моргенштерна". И - трр, - телефон с резолюцией сотруднику
Артуру Лютеру: "Давайте скорее заметочку о поэзии
Моргенштерна". Афины, бывало, докладывали Москве, что
Маларикис кровно обижен коринфской критикой; и -
Ликиардопуло, греческий корреспондент, темнобагровый от
гнева, строчит: "Всему миру известно, поэт Маларикис -
гордость Европы". Читатель же российский читал лишь, как
обкрадывают в "Весах" критика Айхен-вальда, не зная, кто
- Лербгрг; а в Брюсселе "Весы" благодарили: "У нас есть
защитник: "Весы". Когда я в Брюсселе жил, то меня
брюссельцы уважали за то, что я - бывший "весовец";
великолепны, были обзоры латвийской поэзии, и
обстоятельные обзоры,.почти ежемесячные, - новогреческой
лирики.
Быстро повертывалась рукоять; и снаряд лупил из
"Метрополя" - в Афины, Париж, Лондон, Мюнхен; минер - М.
Ф. Ликиардопуло, он - налетал: "Торопитесь, топите,
лупите, давайте". Сухой, бритый, злой, исступленно
живой,, черноглазый, с заостренным носом, с оливковым
цветом лица, на котором - румянец перевозбужденья,
пробритый, с пробором приглаженных, пахнущих фикстуаром
волос, в пиджачке, шоколадном, в лазуревом галстуке -
ночи не спал, топя этого или того, вырезая рецензии иль
обегая газеты, кулисы театров, выведывая, интригуя;
способен был хоть на кружку для чести "Весов". Доказал он
поздней свою прыть, пронырнувши в Германию, в годы войны
и с опасностью жизни ее описав - в сорока фельетонах.
Со всеми на "ты" был.
Расправлялся он с враждебными журналами нечеловечески
круто :был он своего рода контрразведкой "Весов". Поляков
бывало ему: "Тише вы - гм-гм". Ликиардопуло же, бросаясь,
баском тарахтя, как разбрасывал по-полу пуговицы: "Тах-
r`u-тах, - что за гадость: читайте!"
Подсовывал мне номер с ругней; и - строчил свою
ответную "гадость". Был англо-грек (англичанин по
матери); злостью его питалось года "Бюро вырезок".
- "Бить их по мордам, - на вазу фарфоровую налетел, -
давить, бить: церемониться нечего!" - носом на кресло.
Когда ни зайди - дело жаркое: битва; трещит телефон;
деловито,
379
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
зло, сухо: раскал до-бела; диктатура - железная:
"Бездарность, тупица, дурак!" И Алексей Веселовский, с
пробитым навылет профессорским пузом; в пробитую брешь
захвативши портфель, - юрк, юрк: Ликиардопуло; Эллис,
Борис Садовской, Соловьев, юрк - за ним; это - вылазка;
или: трещит барабан день и ночь: "Арцыбашев - и рушился.
Лозунг "весовский": "топи сколько можешь их" Ликиардопуло
в жизнь редакции проводился.
И тут же бросалися гелиознаки в Европу: политика вкуса
не русская, а европейская; движенье имен - европейских,
топленье имен - европейских; единая логика связывала:
травлю Ляцкого с провозглашеньем... какого-нибудь
Маларикиса поэтом. Блок, Иванов - этого не поняли; они
хотели прожить на своем на умке, на своем на домке; а
"Весы" - волновалися фронтом, в котором Мельбурн и Москва
- пункты в сети литературного движения; в "Весах"
забывались: Москва, "Метрополь", из которого с кряком
спешил Поляков; с ним - Семенов: в цилиндре, в сигарищей,
- розовощекий блондин, грубонежный и тонкодубовый.
Еще не отмечен никем заграничный "весовский" отдел; в
нем представлена Франция: Ренэ Аркосом, двумя братьями
Гурмонами, Ренэ Гилем; "спец" Лувра, И. Щукин, отчет
давал о выставках, так что Париж был в "Весах" - первый
сорт; Брюсов - Бельгией ведал; и лично сносился с
Верхарном; я в Брюсселе слышал высокое признанье "Весам":
"Проповедуя Лерберга, Ван-Риссельберга, они в авангарде
шли нашей культуры!" О Суинберне - где было сказано?
Только в "Весах"; академик и лорд Морфиль - английским
отделом заведывал, а итальянским - Джиованни Папини,
теперь - знаменитость; Германию - представлял Лютер:
теперь он в Германии - "имя"; Элиасберг давал обзор
Мюнхена; севером ведали - два "спеца" севера: Ю.
Балтрушайтис и С. Поляков.
Я вовсе не утверждаю, что былой памяти "Весы" имеют
какое-либо отношение к политической и социальной
революции; но что они во многом лили бунт против
литературной затхлости своего времени, - за это стою.
Боролись "Весы" - с кем? С Веселовскими, Пыпиными,
Сторожен-ками. За кого? За Аркосов, Верхарнов, Уитменов,
Гамсунов, Стриндбергов.
Балтрушайтис, угрюмый, как скалы, которого Юргисом
звали, дружил с Поляковым; являлся в желтявом пальто, в
желтой шляпе: "Мне надо дождаться". И не раздеваясь,
садился, слагая на палке свои две руки; и запахивался,
как утес облаками, дымком папироски; с гримасой с
ужаснейшей пепел стрясал, ставя локоть углом и, моргая из-
под поперечной морщины на собственный нос
380
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
в красных явственных жилках; то - юмор; взгляните на нос
- миротворнейший нос: затупленный, румяный.
Казалось: с надбровной морщины несло, точно
сосредоточенным холодом - Стриндбергом, Ибсеном
(переводил, редактировал); он - переряженный в
партикулярное платье Зигурд; цвета серого пара, как скалы
Норвегии; глаз - цвета серых туманов Нордкапа; вынашивал
он роковое решение: встать, перейдя от молчания - к делу;
уже перекладывал ногу на ногу с прикряком, со вздохами:
- "Надо сказать тебе..."
- ?".
Он же вставал: "Надо бы... - посмотрев на часы, басил
он: - Но на-днях, как-нибудь, а теперь - мне пора".
И глаза голубели цветочками луга литовского: около
Ковно; нордкапский туман - только утренний, свежий парок,
занавесивший теплое и миротворное солнышко; он
затупленный, румяный своей добротой нос - в дверь нес.
Куприна, уже выпившего, раз подвели к Балтрушайтису,
чтобы представить: "Знакомьтесь: Куприн, Балтрушайтис".
Куприн же: "Спасибо: уже балтрушался". Ему показалося с
пьяну глагол "бал-трушайте-с" - в значении понятном
весьма: "Угощайтесь".
Но - невозмутимый Балтрушайтис:
- "Еще со мной: рюмочку!"
Мирен - во всем; он коровкою божьей сидел (а вернее -
тельцом), примирений елей лия, на кусающих, злобных
"весовцев", совершая свои возлияния и вне "Скорпиона" с
С. А. Поляковым, которого линию длил, вея вздохом добра,
обещая мне множество раз: "Надо бы мне сказать тебе". И,
поглядев на часы, прибавлял: "Я приду к тебе завтра;
теперь - мне пора". Лет двенадцать я ждал, что он скажет;
а он не рассказывал.
- "Раз он сказал, - дернул губы мне Брюсов, - В Италии:
он рассказал мне про раковины так, что я ахнул: поэт,
крупный, Юргис!"
С ним точно подводная лодка, "Весы", выплывала к
поверхности; портились наши компасы, манометр ломался:
толчок; Брюсов - деревянеет, а Ликиардопуло - пляшет
захлопнутой крыскою; праздно слонявшийся Юргис тогда
только брался за руль; "Надо плыть, руководствуясь
звездами". И, проведя по опасному месту, на палубе снова
болтался, чтоб с первою шлюпкой - на берег: исчезнуть
надолго.
С. А. Поляков и Ю. К. Балтрушайтис - тишайшая,
голубоглазая и красноносая пара блондинов; Семенов меж
ними являлся как третий блондин; Поляков - с отклоненьем
в фагот, Балтрушайтис - в рог турий, Семенов - в
волторну: вели свое трио в
381
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
"Весах" против трио брюнетов, колючих и злых; трио черное
- Ликиардопуло, Брюсов и Эллис.
Ю. К. Балтрушайтис был необходим видом праздным и
флегмою, чтоб под водой не задохлись в раскале котлов, в
oepeo`pemmnl жаре и ярости Ликиардопуло, в сухости
Брюсова, в бредах полемики Эллиса, в щелканьи жадных
зубов Садовского, Бориса, - акулы, которую Брюсов любил
выпускать, чтоб отхватывала руки-ноги она Айхенвальду,
купавшемуся: в море сладости - под броненосным бортом
"Русской мысли". Ю. К. Балтрушайтис сидел подчас перед
конвульсией ярости; и поперечной морщиной бороздился его
умный лоб; и гудением тусклого, как голос рога, баска -
утверждал: "Надо бы мне сказать".
В 21-м еще, выдавая мне визу в Литву, встал, как прежде
в "Весах", и сказал: "Очень жаль, что ты едешь: надо бы
мне, но..." - посмотрел на часы он; и с нордкапским
туманом в глазах он пошел - в свой посольский авто.
И не надо сказать, потому что все - сказано; сказ его -
лирика стихов: о цветах и о небе; поэт полей, - он и под
потолком чувствовал себя, как под открытым небом; помню:
в 1904 году мы раз рядом сидели у Брюсова: был - потолок:
в разговорах сухих, историко-литературных; над макушкой
же Ю. К. Балтрушайтиса был потолок точно сломан (так мне
привиделось субъективно); Балтрушайтис сидел с таким
видом, точно он грелся на солнце, и точно под ногами его
- золотела нива: не пол; он достал из кармана листок и
прочел мне неожиданно свое стихотворение, только что
написанное о том, как над нивою висело небо; и в чтении
стихов - сказался весь как поэт; так что "надо сказать" -
относилось к прочтению стихов; и все о всем в этом смысле
мне уже сказано было: в девятьсот четвертом году; я знал,
что когда он чувствовал лирическое настроение, то вставал
и гудел: "Мне бы надо..."
Стихи написать?
Он в годах вырастал как поэт; в миг сомнений являлся в
редакцию в желтом пальто, в желтой шляпе с полями; и
встав среди нас, стучал палкой своей, как мечом:
- "Весам" - быть!"
Не журналу - созвездию, зодиакальному кругу, всем
звездам; и - небу над ними.
Блондины - тишели в "Весах"; а брюнеты - пылали
стремленьем: топить и садить в дураках.
Брюсов над корректурой, сложив свои руки в той позе, в
которой, его писал Врубель позднее, вынашивал адские
замыслы:
382
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
взором блистал, как омытым слезою; стоял сочетанием -
Гамлета с Гектором: посередине редакции; я, Садовской,
Соловьев - его видели: Цезарем; нашу когорту повел он на
"галлов"; Помпей - Балтрушайтис, Красс - С. Поляков:
триумвиры; и Эллис - прошел в Лабиэны.
Перед Брюсовым переюркивал Ликиардопуло, остро-сухой,
суетясь сухоярыми местями: некогда, негде присесть!
Переполненный черным деянием, с черным портфелем, в
котором таился, - как знать, не стрихнин ли, - в таком же
пальто, в котелке, переюркивал от "Метрополя" в градации
разнообразных редакций: тарах-тахтахтах, - точно пуговицы
костяные ронял на полу. Вел из маленькой комнаты до
десяти, до двенадцати черных подкопов; и к ним -
контрподкопы, чтобы во-время переюркнуть в контрподкоп;
все взрывалось: тарах!
Между всеми делами, как барышня, рдея ланитами, в ухо
шептал: Садовскому, мне, Эллису: "Вы написали б заметку
об авторизации на переводы Уайльда: мое ж право скот
узурпировал!" Имея какую-то авторизацию, годы боролся с
каким-то "скотом", тоже право имеющим; вид имел лондонца
с явным пристрастием в греческой лирике, к греческим
губкам и спелым оливкам; он пропагандировал греческих
деятелей (имена их кончались на "каки" и "-опуло"): "Как
же, - да, да: "Мореас" - псевдоним: Папондопуло!"
Был он замешан во всех закулисных интригах
Художественного театра; и доказывал в ряде годин: "Топить
этот театр!" Проповедывал Ленского и Комиссаржевскую;
вдруг, оставаясь секретарем "Скорпиона", явился в "Весы"
с секретарским портфелем Художественного театра; и вел ту
же линию против театра: в "Весах"; в литературных
волнениях, - всегда минутных! В эпоху полемики с
мистическими анархистами и выпадами "Весов" против Блока,
Чулкова, Иванова и Городецкого он всегда делал вид, что и
он - литератор; и он - кровно-де замешан: в наших
волнениях; и даже по собственной инициативе агитировал
против Чулкова в "Утре России" и "Слове", куда забегал;
нам; твердил: "Ну, ну, - нечего, нечего... Уже иссякло
терпение!"
Тут Поляков, походя на нелепую желтую бабочку, тихо
трепещущую пыльцевым своим крылышком над фолиантом:
- "Ну это вы, знаете, - слишком!"
Поляков - не "скорпион"; Брюсов - да; имел хвост,
утаенный сюртучною фалдой: с крючком; М. Ф. Ликиардопуло
в эти года скорпионин "детеныш", растущий стремительно;
он имел фрак - ах! В него облекаясь, просовывал свой
ядовитый крючок между фрачными фалдами; скоро крючок при
появлении Брюсова вздрагивать стал; скоро затарахтело: де
снюхался Брюсов с
383
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
С.В. Лурье, чтобы, нас ликвидировав, перебежать к
Кизеветтеру, в "Русскую мысль". В свою очередь, - Брюсов
доказывал:
- "Ликиардопуло - греческий плут".
- "Ну, ну это - гм-гм-гм - уж слишком!" - взревал
Поляков.
Я поздней ужаснулся сим двум "скорпионам", в теснейшем
пространстве с сухой торопливостью перебегающим от
телефона к столу и уже подающим друг другу не руки, а
пальцы; казалось: Ликиардопуло, Брюсов, став спинами,
фалды раздвинув, задравши скорлупчатые скорпионьи хвосты,
подрожавши, вонзят два крючка в уязвимые, мягкие части
друг друга.
М. Ликиардопуло виделся утром съедающим горку оливок, и
после себя обдающим уайт-розой, чтоб с запахом этой
струи, не оливок, ворваться в "Весы": тарахтеть и кипеть;
отсидев с Поляковым часок в ресторане "Альпийская роза",
он будет стоять перед трюмо, своим собственным, талию
сжав в стройный фрак, чтоб пройти с шапокляком, в который
совал бледнопалевые он перчатки, - на раут, куда
Полякова, меня не пропустят (таких одежд нет), чтоб от
имени нашей редакции адрес прочесть, мной составленный.
Несимпатичен был мне...
Ловкий редакционный техник и литературный интриган: до
qonqnamnqrh высадить из нам враждебных редакций
враждебных нам критиков; там, где В. Брюсов бежал,
заткнув нос, М. Ф. всякие вони разнюхивал, ими
прованиваясь: для того, и уайт-роза, чтоб ее
перепрыскивать духами (настоящая хлопотливая Марфа). Он
так "перемарфил", что... лучше не стану... и впоследствии
мир удивил, обманувши разведку немецкую, переюркнув
сквозь Германию, вьюркнув в Грецию, встреченный громами
аплодисментов: Антанты(1).
Часто являлся в "Весы" к нам поджарый, преострый
студентик; походка - с подергом, а в голове - ржавчина;
лысинка метилась в желтых волосиках, в стиле старинных
портретов, причесанных крутой дугой на виски; глазки -
карие; съедены сжатые губы с готовностью больно куснуть
те две книги, которые он получил для рецензий; их взяв,
грудку выпятив, талией ерзая, локти расставивши, бодрой
походкой гвардейского прапорщика - удалялся: Борис
Садовской, мальчик с нравом, с талантами с толком, "спец"
(1)С 1916 года след Ликиардопуло исчез с моего
горизонта; в 1915 или 1916 году он, оказавшись
корреспондентом "Утра России", ухитрился проникнуть в
Германию и потом дал ряд фельетонов о ней в "Утре
России". С начала революции он, конечно; эмигрировал;
ходили слухи что - умер.
384
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
в технике ранних поэтов и боготворитель поэзии Фета;
оскалясь, как пес, делал стойку над прыгающим карасем,
издыхавшим и ширившим рот без воды; "карась" - лирика
Бунина, иль - "Силуэты" Юлия Айхенвальда; порой, с
Николай Николаевичем Черногубовым встретяся, делал он,
вздрагивая, восхищенную стойку; оба рвали акульи какие-то
рты и стояли, оскаляся долго и нежно; и после уж
слышалось: "Помните, Фет говорит..." - и оскал до ушей
Черногубова: "А у Языкова сказано..." - ржавые поскрипы
голоса Б. Садовского.
Поскаляся, перетирая руками, они - расходились; и долго
еще себе в руки оскаливались.
Был еще посетитель, угрюмейший, серобородый и
сероволосый, в пенснэ, зажимающем огненный нос: то -
Каллаш; приходил он ворчать на журналы, в которых писал,
отвести душу с Брюсовым. Н. Сапунов, Дриттенпрейс и
Судейкин являлись с рисунками; Феофилактов валялся на
синем диване, иль зубы свои ковырял зубочисткой, иль
профиль в ладони ронял: профиль, как у Бердслея; не
верьте его "загогулинам": страшный добряк и простак.
Все здесь делалось быстро, отчетливо, без лишних слов,
без дебатов; все - с полунамека, с подмигами: "Вы
понимаете сами". Политика - Брюсова: умниц и спецов
собрав, руководствоваться их политикой; Брюсов являлся
диктатором - лишь в исполнении техники планов; глупцов -
изгонял, а у умниц и сам был готов поучиться, внимательно
вслушиваясь в Садовского, в С. М. Соловьева; система
такая слагала фалангу: железную, крепкую. Вместо
программы - сквозной перемиг: на журфиксе, на улице, при
забеганьи друг к другу; "программа", "политика",
"тактика", - это бессонные ночи Б. А. Садовского, меня,
Соловьева и Эллиса, ночи, просиживаемые в Дедове, или в
"Дону" (с Соловьевым иль Эллисом), а - не "Весы", не
заседания, не постановления. Не было этих последних.
В иные периоды - явно казалось, что я - единственно
связан с "Весами"; тотда: мы боролись не с Пыпиным, - с
соглашателями-модернистами, спаявшимися с бытовиками;
фронт - ширился вкусы - менялись; и сам мещанин нас
обскакивал борзо с трибуны "Кружка", проносяся в оранжево-
бурые отбросы от революции: литературной, да и
политической; это случилось в эпоху "огарков"; толпа
подозрительно шустрых поэтиков к нам повалила; Иванов
упал в их объятия (даже писал о "трехстах тридцати трех"
объятиях он).
Неожиданно: Брюсов - скомандовал:
- "Трапы - поднять. Пушки с правого борта - на левый!"
385
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
И вот, кто вчера нас ругал, как "левейших", теперь
восклицал: "Старики, мертвецы!" В Петербурге войною на
нас шел - Блок; поэты из "Вены" (такой ресторан был), где
Дымов, Куприн, Арцыбашев, Потемкин себя упражняли в
словах, - собирались брататься с Ивановым и Городецким;
огромнейший табор "Шиповника" с Л. Н. Андреевым и с
филиалом московским, возглавленным Зайцевым, соединились:
топить нашу малую подводную лодку.
В. Брюсов, бывало, склонясь скуластым лицом, руку
навись поставивши:
- "Они - наглеют, Борис Николаевич... Надо, Лев
Львович, сплотиться очерченной группой".
И Эллис, задергавши плечики, лысой головкой качает,
трясяся мухром сюртучка с заатласенными, полустертыми,
крытыми желтым пятном рукавами: "Сознательность. Без
дисциплины нельзя". Брю-сов, палку и шляпу схвативши, -
куда-то; живой, молодой, палкой вертит; горошком с
лестницы. Эллис: "Смотри, - а, каков?" Эллис дул из
страницы "Весов" по всему бесконечному фронту: от Блока
до... Стражева: "Есть лишь один символизм; и пророк его -
Брюсов".
Другая картина: "Весы" сотрясались от внутренних
взрывов я, С. Поляков, Балтрушайтис и Ликиардопуло -
против Валерия Брюсова, Эллиса и Соловьева. С. А.
Поляков: "Вы, Валерий - гм - Яковлевич, что-то... гм!"
Брюсов - руки на грудь, сардоническ ерзал плечом,
издеваясь над Ликиардопуло; Ликиардопуло - черный
оливковолицый, сухой: "Пусть докажет Валерий мне Яковлева
что... Сергей Александрович... Да погодите, Лев
Львович... Да слушайте, Юргис... Пускай он докажет, что
он не порочил меня... Юргис в ухо мне: "Брюсов нас топит:
тебе бы - редактором быть!" - Ну уж нет, Боря, - дружбою
дружба: но если тебя вы двигают, я - против!" - Сергей
Соловьев говорил мне потом. "И я тоже..." - отрезывал
Эллис. И мы - похохатывали.
Заседания шли напряженно: два "лидера", Брюсов и я,
проявили предел деликатности, друг друга явно поддерживая
против собственных единомышленников; так сложилася партия
третья (двух "лидеров"); они - пожар ликвидировали,
разделив свои функции (ведал теорией - я, ведал критикой
литературного - Брюсов).
Так было в последний год существованья "Весов".
В то далекое время каждый из близких "Весам" был кровно
замешан в проведении литературной платформы журнала;
таких неизменно близких, на которых рассчитывал Брюсов,
была малая горсточка; литераторы и поэты - наперечет; с
1907 года до окончания "Весов" такими были: Брюсов,
Балтрушайтис, я, Эллис Соловьев, Борис Садовской; Поляков
- почти не влиял; поддер-
386
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
живая дружбу с жившим за границей Бальмонтом, он встречал
оппозицию в оценке Бальмонта у Брюсова, очень
критиковавшего все книги Бальмонта после "Только любовь";
я тоже к Бальмонту относился сдержанно; Эллис - почти
враждебно; Бальмонт в ту пору - "почетный" гастролер, а -
не близкий сотрудник; такими же гастролерами были
Гиппиус, Иванов, Блок, Сологуб; Сологуб давал мало
("Весы" мало платили, а он, "корифей" литературы, уже
привык к "андреевским" гонорарам); Блок и Иванов косились
на "Весы", не прощая нам нашей полемики; Гиппиус изредка
гастролировала стихами; лишь месяцев пять она писала
часто под псевдонимом Антон Крайний, не потому, что
разделяла позицию "Весов" до конца, а потому, что
разделяла нашу полемику того времени с Чулковым и В.
Ивановым.
С 1907 года ядро близких сотрудников - ничтожно; район
обстрела - огромен: все литературные группировки, кроме
"весовской"; отсюда многие псевдонимы; каждый из нас имел
несколько псевдонимов: Садовской писал под псевдонимом
Птикс; Брюсов под псевдонимами - Пентауэр, Бакулин; я
писал, как Белый, Борис. Бугаев, Яновский, Альфа, Бэта,
Гамма, Дельта, "26", Спиритус и т. д.
Я не намерен теперь защищать ряда эксцессов, допущенных
"Весами"; полемика была жестока; Брюсов - ловил с
поличным: всех и каждого; Садовской переходил от едкостей
к издевательствам, например, - по адресу Бунина; Эллис
являл собою подчас истерическую галлопаду ругательств с
непристойными науськиваниями.
Я в этой полемике был особенно ужасен, несправедлив и
резок; но полемика падает на те года, когда был я
морально разбит и лично унижен; и физически даже слаб
(последствия сделанной операции); я был в припадке
умоисступления, когда и люди казались не тем, что они
есть, и дефекты позиций "врагов" разыгрывались в моем
воображении почти как полемические подлости по адресу
моей личности й личности Брюоова; объяснение моей
истерики - личные события жизни уже эпохи 1906-1908
годов; вот эти-то "личные" переживания, неправильно
перенесенные на арену борьбы, путали, превращая даже
справедливые нападки на враждебные нам течения в
недопустимые резкости, обезоруживавшие меня: таковы
безобразные мои выходки против Г. И. Чулкова, на которого
я проецировал и то, в чем я с ним был не согласен, и то,
в чем он не был повинен: нисколько; так стал для меня
"Чулков" - символом; полемизировал я не с интересным и
безукоризненно честным писателем, а с "мифом", возникшим
в моем воображении; меня оправдывает условно только
болезнь и те личности, которые встали тогда меж нами и,
пользуясь моим состоянием,
387
|

увеличить
переключиться
на изображения
|
властной руки над столом, заставляющей слушать насильно,
картаво привзвизгивая, как фантош, - с перекряком, со
всхлипом, с гадючьим шептаньем - влеплял гениальные,
маниакальные свои схемы; казался он подчас сочетанием
барса... с... немного... облезлым медведем, иль
сутуловатым капралом, доживающим свой век в деревушке,
открывшим табачную лавочку: не то - состарившийся
Мефистофель.
Он провозглашал сумасшедший свой тост за немыслимое
предприятие; критики - Энгель, Кашкин, Семен Кругликов,
каждый, глаза опустив, бормотал: "Чорт дери: я - сел в
лужу!" Профессор бактериологии Л. А. Тарасевич, сидевший
всегда тут, имевший обычай в огромной рассеянности
затвердить ему слухом подброшенное, совершенно случайное
слово, среди громового безмолвия - произносил:
- "Апельсин!"
- И - все вздрагивали; и - опять:
- "Апельсин!"
И, хватаясь за шапки, - бежали...
"Дом песни" позднее осел в Гнездниковском: просторные
синие и сине-серые с точно такою же синею и сине-серою
мебелью стены: в серяво-синявых коврах и в синяво-серявых
портьерах; здесь, сероголовый, сутулый, пошлепывал
туфлями, в серой, с поджелчи-ной, паре, в серявеньком
пледике; взмахивая бахромою пледика, бросал на стены
чернявую тень и синявый дымок волокнистой тоски, -
бритый, только в усах растопорщенных напоминал он капрала
в отставке, живущего около Тлемсена: не Мефистофеля!
Входишь, - он кряжистым, круглоголовым, квадратным
медведем согнулся с насупом: над крошевом; зябнет таким
горюном, перекручивая папиросочку из табачка "капораль",
с подшипеньем "саль сэнж, саль пантэн"(1); "пантэн",
может быть, Артур Лютер, читавший курс лекций для "Дома
песни", а может быть, это- Энгель, с усилием, с верностью
"Русские ведомости" на "Дом песни" настроивший в ряде
годин. Уши, точно прижатые к серой его голове, быстро,
бывало, дернутся; дернется вся голова, уйдя в плечи и в
плед.
И не то улыбнется, не то огрызнется:
- "Курю вот "капораль": это - память Франции... Я здесь
- чужой".
Так же в собственном домике, в Буа-ле-Руа, близ Мэлин,
в огородике, в садике, в пьяных цветах, в красных маках,
на
(1)"Грязная обезьяна, марионетка".
394
|
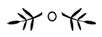
|
|
|
 |

